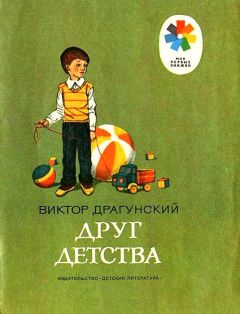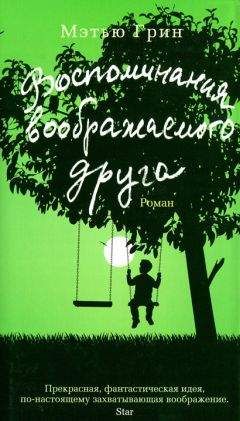Максим Кантор - Учебник рисования
Вот отвалились от России сопредельные ей земли, вот края и регионы стали враждебны центру, вот расползлось население по чужим областям и негостеприимным окраинам, вот уже и пропала цельная русская нация, вот обозначились интересы у восточных царьков — вот и конец пришел, кончилась великая страна.
И тогда, когда было уже поздно, спросили себя: а, собственно, ради чего мы все это затеяли? Ответили: ради свободы! А что же такое свобода, спросили себя русские граждане, озирая пепелище. Вероятно, свобода государства — это состояние, при котором соблюдаются простые условия его целостности и сохранности. Сокровища земель этого государства принадлежат ему самому и расходуются во имя его блага; язык его народа ценят и хранят; его культура и обычаи в почете; армия защищает его границы; дети в государстве получают хорошее образование, старики — достойную материальную помощь, а больные — хороший врачебный уход; правители ответственны перед народом. Государство, в котором данные условия соблюдены, можно считать свободным. А если не соблюдены условия — тогда государство несвободно. Или его просто нет.
Ха-ха! — рассмеялись либеральные интеллектуалы, услышав такое определение. Выходит, если границы крепки, армия хороша, пенсию платят, язык в школах преподают — тогда свобода? А как же тоталитарная идеология?
А — никак.
Если правитель ответственен перед народом, охраняет культуру и язык, образование и границы — тоталитарной идеологии не будет. Тоталитарная идеология неизбежно разрушит культуру, язык, границы и сам народ. И первый симптом возникновения такой идеологии — разрушение культуры. Как бы розны ни были названия тоталитарных идеологий в двадцатом веке, их суммарная суть одна — реставрация язычества, уничтожение христианской культуры. Вместе с ней было уничтожено представление о свободе.
Однако свобода и не была никем востребована. Массы, интеллектуалы, герои, государство — в стремлении к прогрессу алкали иного: а именно прибавочной свободы. Дайте той самой прибавочной свободы, в коей сосредоточены дорогие сердцу привилегии, — а ничего иного и не надо! Ради нее и сражались, ее получили, ей и служили.
IXЧтобы проследить, как циркулировала прибавочная свобода в обществе, сбросившем ярмо тоталитаризма, достаточно обратиться к истории независимой прессы. Некогда пылкая и будоражащая воображение, пресса постепенно снизила градус страсти. Пафос был редуцирован логикой рынка: не нужно Ефрему Балабосу читать революционных призывов, ему про отели на Гонолулу любопытнее. Какие люди оттачивали перья в свободолюбивых изданиях! Что им, улицы теперь мести? Отнюдь: сыскали места работы нисколько не хуже. Появились газеты не революционного, а, так сказать, эволюционного содержания. Объективная информация о презентациях, балах, сделках и кривой маркетинга — потеснила призывы к свободе. Журналисты негодования не выражали: понимали, что свобода — и есть рынок, а раз рынку нужны объективные данные о ресторанных ценах и ценах на нефть — значит, таков дискурс свободы. Даже фанатику свободного слова сделалось ясно: декларацией читателя не удержишь, информация — вот королева рынка. Новая объективная журналистика столкнулась лишь с одной трудностью: отсутствием информации. Информация — по определению — есть то, что отделяет главное от неглавного, а именно такое деление оказалось нежелательным — в нем есть тенденция к пафосу. То есть события-то в мире происходили постоянно: там и сям убивали, делили на части страну, отчаянно много воровали. Мог некогда журналист, ослепленный правдоискательством, возопить со страниц независимой прессы: стыдно вам, о сограждане, жрать лобстеров, когда ваши братья гибнут! Случались в прошлом такие казусы, рыночных достижений они не сулили. И журналисты приспособились описывать явления беспристрастно — так, чтобы у читателя не возникало ощущения беды. Так сформировался специфический язык — язык шутливый и циничный, подающий событие во всей его относительности: один гражданин умер — другой родился, дом взорвали — ресторан открыли. Появились мастера жанра — колумнисты исполняли тексты так остроумно, что, закончив чтение о массовом убийстве, читатель не мог сдержать улыбку. Расстрел сепаратистов, открытие театрального сезона, наводнение, презентация новой коллекции мод — читатель должен усвоить, что свет клином не сошелся на беженцах, бомжах, убитых в Багдаде и т. п. Мастерство журналиста заключалось в том, чтобы снизить градус любого события до шутки — тем самым нивелировать информацию. И сыпались на граждан все новые издания, витрины трескались от количества газет, и каждая — с объективно нивелированной информацией, новостями, стертыми в единый неразличимый продукт. Возникало новое издание, и владельцы терялись, как детище назвать? Ну, в самом деле, не называть же листок объективной информации «Крик души»? Израсходовали нейтральные слова «Телеграф», «Ведомости», «Новости», стали называть издания просто и функционально — «Газета», «Журнал». Газета под названием «Газета» — вот она, квинтэссенция профессионализма: не иметь имени вообще.
Убеждения обменяли на прибавочную свободу; прибавочную свободу пустили в оборот; оборот рынка выявил никчемность убеждений; ergo: приобретенная свобода не будет иметь никакой цены, если не будет обслуживать потребности сильных мира сего. И — подчиняясь законам рынка — независимая пресса перестала существовать. Не жестокие сатрапы с дубинками, не коварные бизнесмены с долларами, но сами независимые интеллектуалы продали свой статус — и исчезли из общества. Остались лишь те издания, которые могут манипулировать толпой, — как, собственно, и было в прежние времена. Но случилось это не по воле диктатора, а по логике прогресса.
Прав, тысячу раз прав был Баринов, настаивая на том, что чем беспристрастнее и остроумнее газета, тем выше ее стоимость на рынке. Поскольку именно цинизм есть лучшее выражение прибавочной свободы, а общество приняло цинизм как информационную политику — то естественным (то есть циничным) образом общество сократило количество газет. Издания для интеллигентов стали закрываться — за отсутствием аудитории и возможности создать таковую. Роль интеллигенции была доиграна до конца — а шутить могут и менеджеры; у них, кстати, и лучше шутки выходят. Нет нужды в двух лакеях — берут только шустрого. Прекратили существование листки для думающей публики: «Газета», «Общая газета», «Журнал», «Телеграф» и пр. — окончили свои дни. Граждане по-прежнему умилялись на пестроту обложек в витринах: видать, много противоречивых мнений в свободном обществе, — но не было уже ни обилия газет, ни информации, ни вариантов мнений.
— Уходи из газеты, — говорил Павел Рихтер, — стыдно.
А Юлия Мерцалова отвечала:
— Куда идти? По крайней мере, в газете я нужна: депутаты у меня получаются менее глупые, чем они есть.
— Безразлично, умен преступник или глуп. Пойми: близится время — и предъявят счет всякому преступнику. Слышишь, близок час! Я сделаю так, что они увидят мои картины — и поймут! Я сломаю этот порядок!
Юлия смотрела на Павла, склонив голову и улыбаясь: прошли годы — ничего не переменилось. Она уже не говорила слов «Женись на мне»: с некоторых пор стало ясно, что эти слова смысла не имеют. Сломать порядок в стране — об этом он мог мечтать. Но изменить обстоятельства жизни — не мог. Павел продолжал навещать свою жену, проводил с ней вечера. Так было пять лет назад, так оставалось по сей день. Вероятно, это устраивало и Лизу, и Павла — насколько ситуация оскорбительна для Юлии Мерцаловой, они не думали. О своем будущем Юлия должна была позаботиться самостоятельно, не рассчитывая ни на кого. Мало ли что еще изобретет болезненная Лиза: скажется немощной, заставит Павла сидеть у ее постели дни и ночи. В такой ситуации газета оставалась надежным резервом.
XЗа годы, пока длилась связь Павла с Юлией Мерцаловой, общество привыкло и оправдало эту связь, нашло в ней подкупающее очарование. Как не оправдать обжигающую страсть, что заставила пожертвовать домом, семьями, прошлым. Такая страсть вызывает уважение.
Не смирилось общество с другим: с тем, что Павел не оставил жену, продолжал видеться с ней, проводить вместе вечера, молчать, глядя в темное окно. Если бы Павел был приличным женатым человеком и тайно ходил на страстные свидания, а вечером возвращался домой (как это делали все нормальные люди в его возрасте) — в его поведении не было бы ничего предосудительного. Если бы он бросил постылый дом и соединился с новой избранницей — это бы все поняли. Если бы он оставил нудную жену и жил на глазах у всех с красивой любовницей — ему бы простили. Собственно говоря, ему именно это и простили. Но Павел нарушил правила и тайком продолжал встречаться с женой, и это сочли некрасивым и ненормальным. Павел и сам понимал, что нарушает правила, присвоив привилегии, каких нет у прочих людей.