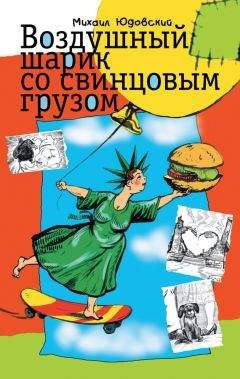Сволочь - Юдовский Михаил Борисович
— Ну как? — привычно поинтересовались мои друзья.
— Не хочется хвастать, — ответил я, переводя дух, — но вступить со мной в контакт сегодня хотели не одна, а многие.
— Она что, подружек позвала? — оживился Глеб.
— Не знаю, — ответил я. — Я даже не совсем уверен, что они ее подружки.
— Сколько их было?
— Трое.
— Симпатичные?
— Понятия не имею. На них были шинели и ушанки. Да и темновато было, чтобы разглядеть их прелести.
— Эй, — изумился Артурчик, — какие шинелы-ушанки?
— Да как у тебя. А на одной даже портупея.
— Интэрэсно, слушай! — сказал Артурчик.
— Хочешь познакомиться? — спросил я. — Прыгай через забор, может, они там еще ходят.
— Точно?
— Сто процентов. Я им так понравился, что они до сих пор мечтают меня увидеть.
— Артурчик, — сказал Глеб, — не ходи к ним. Я этих подружек знаю. Они умеют любить исключительно на гауптвахте и, как выражается наш старлей, в особо извращенной форме.
— В шинэлах? — уточнил Артурчик.
— Ну да. Лучше забей на них. Чаю хочешь? — Глеб повернулся ко мне.
— Хочу, — сказал я.
— Андрюха, плесни ему.
От горячего чая мне вдруг стало как-то по-домашнему хорошо. За окном сыпал снег, чай разливался приятным теплом по телу, а каморка в клубе казалась уютной и родной. На мгновение Глеб, Андрюха и Артурчик сделались самыми близкими мне людьми на свете.
На следующее утро пришел Чагин, невыспавшийся и хмурый.
— Любопытные новости ходят по гарнизону, — сообщил он. — Говорят, вчера вечером патруль саперов чуть не сцапал нашего бойца.
— Вах! — удивился Артурчик.
— Салатаев, помолчи, бляха! — поморщился Чагин.
— Откуда они знают, что нашего, если не сцапали? — поинтересовался я.
— Умный, да? — пропагандист пристально глянул на меня. — А кто у нас еще краснопогонники, кроме мотострелков?
— Они что, в темноте погоны разглядели?
— Много болтаешь. Хочешь, чтобы я твои сапоги проверил?
— А что особенного в моих сапогах?
— Да ни хрена в них особенного. Просто интересно сверить их со следами на снегу, которые ведут от забора до клуба.
— Ну и что? Может, кто к забору подходил.
— Пятясь раком? Спиной вперед? Вы, бляха, умные тут все. Думаете, чуть больше года прослужили, так можно, сука, по ушам майору ездить, который в этой гребаной армии двадцать лет отмаячил? Лопаты в зубы, и шагом марш!
— Какие лопаты? — не понял Андрюха.
— Совковые, Окунев. Которыми снег гребут. А вы ими будете разгребать ваши блядские следы, пока никто не видел. Вместе служите, вместе и гребите. Или мне замполита с командиром полка попросить помочь?
— Не надо, товарищ майор, — поспешно вставил Глеб. — Мы как-нибудь сами справимся.
— Вот и хорошо. Схватили лопаты и исчезли. Справятся они, — пробормотал он нам вслед. — Остряки, бляха. Дети…
С Аней я увиделся еще один раз — на Рождество. Она заявилась к нам в художку в компании с двумя молчаливыми подружками. В руках у них были пакеты, в которых лежали наколядованные апельсины и конфеты. Высыпав все это богатство на стол, она предложила нам угощаться и защебетала, как канарейка, обращаясь исключительно к Глебу и начисто игнорируя меня.
— Мило у вас в клубе, интересно — краски, кисточки. Ты ешь, Глеб, вкусные апельсины. И друзей можешь угостить. Знаешь, у кого мы их наколядовали? У вашего пропагандиста. Ну, у Чагина. Урод, а добрый. Полкулька нам насыпал. Представляете, приходит он завтра, а вы ему: спасибо за апельсины, товарищ майор. А где Артур с Андрюшей?
— Андрюха в кинобудке дрыхнет, — ответил Глеб, несколько удивленно поглядывая то на Аню, то на меня. — А Артурчик пишет чагинские мемуары.
— Мемуары?
— Ну, документацию. Заодно приучает массы к русской орфографии с осетинским акцентом.
— Глеб, ты прелесть какой остроумный! — наигранно восхитилась Аня. — Скажи, а ты мог бы написать, — тут она искоса глянула на меня, — мой портрет?
— Я? — удивился Глеб. — У тебя, по-моему, уже есть художник.
— Не будем о грустном, — отмахнулась Аня. — Откуда в Киеве взяться приличным художникам? Там и мужчин-то толком не осталось. А у тебя все-таки ленинградская школа. Так напишешь?
Глеб снова взглянул на меня. Я фыркнул и пожал плечами.
— Знаешь что, Анечка, — сказал Глеб, — я как-то не люблю дописывать за другими. К тому же, питерская школа специализируется на лошадях. Клодт и компания. На тезке твоем — Аничковом мосту, бывала? Вот там оно по-нашему, по-ленинградски. А портреты — это к киевлянину.
— Н-да, — задумчиво протянула Аня. — Не думала я, что жлобство добралось от Киева до Питера. Всего вам доброго, мальчики. Таня, Света, пошли отсюда. Не будем мешать творцам жрать апельсины.
— Стало быть, вот как? — полюбопытствовал Глеб, когда дверь за посетительницами закрылась.
— Ага, — ответил я. — Дай пять, Питер.
— Лови, Киев.
Мы разделили апельсины с Артурчиком и Андрюхой и с отвычки объелись ими так, что кожа у нас на следующий день зудела. И когда Чагин пришел в клуб поинтересоваться, какую очередную пакость мы отчебучили, Глеб уже не с подначкой, а с мрачным укором проронил:
— Спасибо за апельсины, товарищ майор.
— А? — не понял тот. — Какие апельсины?
— А вот эти самые. — Глеб показал свои руки в розовых цыпках.
— Пожалуйста, — рассеянно ответил Чагин. — Ты это… в санчасть сходи.
Весь день он был не похож на себя. Похвалил пустые щиты, которые мы с Глебом едва загрунтовали. Спросил у Андрюхи, какое кино планируется на выходные, и, выяснив, что никакое, похлопал Андрюху по плечу и сказал: «Молодец». Затем рассеянно просмотрел и одобрил очередную порцию документации, представленную Артурчиком.
— Ошибок нэт, товарищ майор? — удивленно спросил Артурчик.
— Ошибок? — переспросил Чагин. — Каких ошибок? Нет, ошибок делать не надо.
Он то и дело поглядывал на часы, и когда пробило пять, быстро накинул шинель, напялил шапку и собрался уходить, чего за ним прежде не водилось.
— Бойцы, — обратился он напоследок ко мне и Глебу, — вы это. успеете до дембеля новые портреты Маркса и Ленина нарисовать?
— Ну, если они согласятся позировать, — пожал плечами Глеб.
— Кто?
— Маркс с Лениным.
— Не борзей, Рыжиков. Так нарисуете?
— Напишем, — по привычке поправил я.
— Чего? — не понял Чагин. — Кому напишете? Марксу с Лениным? На тот свет? Не спешите туда, еще успеете.
И подался из клуба, бормоча на ходу:
— Позировать… напишут они… Остряки, бляха. Дети…
Мы решили воспользоваться ранним уходом Чагина и замутить жареную картошку с тушенкой и брагу. Часам к шести вслед за пропагандистом ушел начальник клуба, которому надоело имитировать деятельность, и мы взялись за подготовку к трапезе. За окном снова валил снег, а в клубе было тепло и тихо. Мы ели со сковородки картошку с розовыми волокнами тушенки, потягивали из эмалированых кружек брагу и чувствовали полнейшее единство с этим миром и удовольствие от пребывания в нем. Часов в девять в клубном коридоре послышались шаги Чагина — наше начальство мы уже давно научились распознавать по походке.
— Похавали картофану, — с досадой проговорил Андрюха. — Че ему дома не сидится.
— А ты не догадываешься, да? — с иронией заметил Глеб. — Снова с женой поцапался. Опять не тому дала.
— Убивать таких жен надо! — заявил Артурчик.
— Тебе за Чагина обидно или за картошку?
— За обэих.
— Да ладно вам, — вмешался я. — В первый раз, что ли. Запрется у себя в кабинете и пробухает полночи. У него своя свадьба, у нас свои именины.
В это время в дверь постучали — нервно, нетерпеливо и требовательно. Маскируя следы преступления, мы поспешно сунули бражку за тумбочку, прикрыли сковородку куском фанеры, сверху накинули какой-то шмат материи, и Глеб открыл.
Чагин был почему-то не в форме, а в зимней куртке на меху и в нелепо выглядевшей на нем лыжной шапочке. Лицо его, обыкновенно кирпичного оттенка, показалось нам каким-то желто-серым. Майора слегка пошатывало, но спиртным от него не пахло.