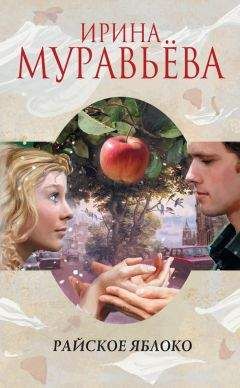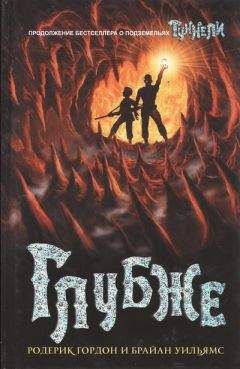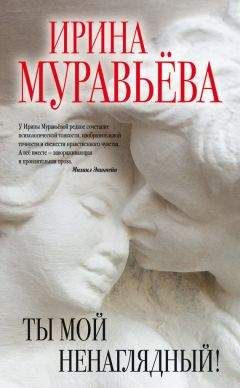Ирина Муравьева - День ангела
Не буду больше. Остальные подробности таковы, что переписывать – рука не поднимается. Завтра прием в посольстве. Знаю, что будет Уолтер. Я его не видела со дня возвращения Патрика. Скажу, что плохо себя чувствую. И не пойду.
Лиза! Не успела отправить тебе это письмо, как пришел Патрик с новостью: он получил телеграмму из Лондона, что все его материалы в печать не приняты и сам он уволен из газеты. Мы ничего не понимаем. Кто мог разгадать его псевдоним и почему – сразу увольнение? Патрик сказал мне, что он почти знает, чьих это рук дело, и завтра в посольстве все разъяснится. Теперь я, разумеется, не смогу остаться дома и пойду вместе с ним.
Вермонт, наше время
– Вы ищете кого-то, Димитрий? – спросила Надежда.
– Да, Лизу, – спокойно ответил он, и у Надежды округлились глаза.
– Сказала ведь я, что попался! – скороговоркой пробормотала она и с досадой щелкнула ногтем по спинке синей, в черных полосках, стрекозы, опрометчиво припавшей к ее загорелому плечу. – Ну, в этом я вам не советчик! Вы тут без меня разбирайтесь!
– В чем?
– Не знаю, не знаю, – отмахнулась Надежда, – тут у нас много было страстей, много переживаний, тут у нас некоторые из-за этих прекрасных глаз вообще без работы остались!
Ушаков молчал.
– Вы понимаете, Димитрий, – доверительно понижая голос, сказала она, – когда женщина не считается с тем, есть ли у человека семья, дети, обязанности, жена, наконец, причем не какая-нибудь там, в замызганном халате, вечная жена, а личность тоже творческая, яркая, нервная, – когда женщина плюет на все и вцепляется в такого человека, я этого не комментирую! Да! Просто и ясно! И вы от меня ничего не добьетесь!
– Но раз вы так сердитесь, то понятно, как вы к этому относитесь…
– Я бы никогда не стала ни во что вмешиваться, – перебила она, – не так, слава богу, воспитана! Но нельзя же смотреть равнодушно на то, как на наших глазах человек немолодой, разносторонний, любящий детей и, главное, свою жену, которая, повторяю вам, лучший его друг и партнер по творчеству, нельзя же смотреть равнодушно на то, как он вдруг с разбегу съезжает с катушек!
– С кадушек?
– С катушек! – взвизгнула Надежда. – Кадушки – с капустой! А это – катушки! И я говорю: просто съехал с катушек! Хотел на чужбине стать чернорабочим! А сам – режиссер! Постановщик балетов! Поставил у нас здесь четыре балета! И лучше намного, чем Эйфман, намного!
– Где – здесь? В русской школе?
– Не в школе, – успокаиваясь, сказала она. – В балете – все молча, нам так не подходит. Балеты он ставит в столицах, в Европе, а здесь он с женой, она тоже все ставит. «Каток под названием «Анна», слыхали? Прекрасный спектакль! Там классики много, но есть современность. Ребята играли с огромным восторгом.
– Оазис, короче, – засмеялся Ушаков.
– А вы не шутите! – вспыхнула Надежда. – Россия – в душе у ребят, это точно.
– С Россией в душе целые пароходы возвращались из Европы в тридцатые годы! – с неожиданным раздражением сказал Ушаков. – Известно, чем это все кончилось.
Она прикусила полную нижнюю губу.
– У нас тут всегда много спорят, – старательно, словно отвечая урок, начала Надежда. – Об эмиграции. Есть такие циники, которые считают, что евреев начали выпускать из бывшего СССР в качестве обменной валюты и что это было исключительно из экономических соображений. Но таких циников – меньшинство. Мои родители очень многое сделали для того, чтобы расшаталась советская система. И не только мои родители, а все вообще правозащитники. Если бы Галич не пел свои песни, неужели, вы думаете, был бы разрешен выезд евреев?
«Боже мой, какая дура! – тоскливо подумал Ушаков, вежливо улыбаясь в лицо раскрасневшейся Надежде. – Откуда берутся эти люди, которые всегда и все знают?»
– Мы бы тоже вернулись, – с вызовом продолжала она. – И мама. И папа. И я. И все дети. Но мой бывший муж – он, как вам известно, американец, – он ни за что не дал бы мне увезти обратно детей. Он бы меня просто в тюрьму посадил, в сумасшедший бы дом запер! Ни перед чем бы не остановился!
– А вам бы хотелось обратно в Россию?
– Волков бояться – в лес не ходить! – звонко ответила Надежда, давая этим понять, что устала вести философский спор. – Ой! Слышите? Они, кажется, уже репетировать начали! Они, значит, тут, на поляне. Тут чудо-акустика!
За спиной Ушакова во влажной лоснящести леса, который был, словно зонтом, накрыт застывшим над ним облаком и слегка зарумянился от быстрых багровых оттенков заката, послышались голоса, перебивающие друг друга. Потом они стихли, и вдруг один голос – с громоздким английским акцентом, но чистый и сильный, запел очень громко:
Однозву-учно гре-е-емит колоко-о-ольчик,
И дорога пы-ы-ы-ылится-я-я слегка,
И ши-и-ироко-о-о по ровному-у-у полю
Разливается песнь я-я-ямщика-а!
Столько чувства-а-а в той пе-е-есне уныло-ой,
Столько чувства-а-а в напеве ро-о-одном,
Что в груди моей, хладно-о-ой, осты-ы-ы-лой,
Разгорелося се-е-ердце огне-ем!
– Не так, не так! – закричала Надежда, бросаясь на звуки песни. – Я сколько раз говорила, Матюша, что ты должен начать тихо, сдавленно, а потом – чтобы как гром среди неба! Когда запоешь «разгорелося сердце», чтоб все тут рыдали!
На поляне, местами заросшей крупными добродушными ромашками, особенно белыми в этом уже покрасневшем вечернем воздухе, стояли брат и сестра Смиты, кудрявые и покрасневшие, похожие на старые английские портреты, а рядом, уткнувшись в раскрытые тетрадки, сидели на траве юноши и девушки – не больше чем семь или шесть человек – и откровенно зубрили написанное так, как это делают школьники в младших классах: зажмурившись и быстро, беззвучно шевеля губами. При виде Надежды они застеснялись.
– Опять, значит, слов мы не знаем! – медленно и грозно произнесла Надежда. – Вы что, и на вечере будете по тетрадкам петь? А ну, положите! За месяц могли бы уж выучить!
Американские студенты послушно закрыли тетрадки.
– Саня! – обратилась Надежда к Сесилии, сестре голубоглазого Матвея Смита. – Давай начинай! Без шпаргалки.
Сесилия-Саня вытянулась, как змейка, прижала к груди свои белые руки:
Ты этого-о-о хотел, счи-и-ита-а-ая все ошибкой!
Ты са-а-ам мне го-оворил, нам разойтись по-о-ора!
– Да мучайся, Санечка, мучайся! – застонала Надежда. – Не пой мне слова, а заставь меня плакать!
Я встре-етила-а разры-ыв спокой-но-о-о-ю улыбко-о-ой,
Но плакала по-отом до са-а-амого-о утра-а! —
заголосила Саня, умоляюще глядя на небо и стискивая руки так сильно, что кулаки покраснели и стало казаться, что Саня в перчатках.
– Вот! Лучше! Вот так! – просияла Надежда. – По-русски мне пой, чтобы все тут рыдали!