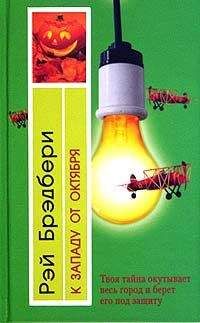Евгения Кайдалова - Ребенок
С переходом в ранг маркетолога выросла и моя зарплата, теперь я могла даже откладывать деньги. Отправлять половину своего заработка маме я перестала уже через месяц – та вновь устроилась на работу. Помог ей в этом тот самый писатель-диссидент, которого мама когда-то содержала за счет библиотечных средств и своего сидения в читальном зале. За годы перестройки он выгреб из своего стола все тонны бумаг, что не могли увидеть свет при Брежневе, и стал печатать их где ни попадя (журналы в то время жадно хватались за такие залежавшиеся тексты). Будучи на волне всенародной известности, он как-то по старой памяти зашел в библиотеку и был потрясен отсутствием там мамы. Диссидент немедленно разыскал ее на дому со всеми признаками начинающейся депрессии и – редкий случай человеческой благодарности! – предложил работу своего личного секретаря, литературного агента и музы, все в одном лице. Судя по радостному и нежному тону, которым мама рассказывала эту историю, сработались они хорошо. Совсем как Достоевский с Анной Григорьевной…
Да, мама отодвинулась еще дальше. Кладя трубку, я вдруг подумала не о ее счастье, а о том, что если бы не фирма, я осталась бы в мире совершенно одна. Одна и наедине с проклятием, гнездящимся внутри меня.
Шла середина мая – четвертый месяц. Он уже перестал мучить меня тошнотой, слезливость тоже прошла. Я еще не начала по-настоящему чувствовать нарастающий вес в животе, фигура покамест тоже была приемлемой – в свободной льняной одежде моя беда была совсем не заметна. Все было бы ничего, если бы…
Из прохлады первого гуманитарного корпуса, где велись телефонные переговоры с мамой, я вышла на улицу, и меня обдало веселым теплом. Вокруг цвело все, что только могло цвести: сирень, яблони, черемуха, одуванчики… казалось, что аромат стоит в воздухе густо, словно пар в русской бане. Газоны вокруг небольшого пруда с фонтаном были усеяны отдыхающими студентами. Пары прижимались друг к другу и ласкали друг друга губами, не стесняясь окружающих. Небо поднималось над головой как-то невообразимо высоко, словно предлагая тебе взлететь душой и телом. Казалось, что весь университет высыпал на улицу гулять и каждый встречный, на секунду поравнявшийся со мной, спешит обнять и поцеловать своего любимого человека.
Я добрела до главного здания и медленно повернула ключ в замке своей кельи. Мне предстояло провести вне фирмы безрадостно долгую неделю майских праздников.
X
В субботу утром мне не хотелось открывать глаза – этот день не обещал ничего, кроме ожидания. Ожидания того, когда же наконец пройдут два выходных и я вернусь к нормальной человеческой жизни – в офис. Помимо того, что два дня в неделю я оказывалась одинока, я начинала еще и прислушиваться к своему внутреннему состоянию, чего легко можно было избежать в горячке будней. А прислушивание не сулило ничего хорошего.
Шла первая декада июля – шестого месяца по моему особому счету. Самое легкое время – вторая половина четвертого и пятый месяц были уже в прошлом. Эти благие шесть недель, когда меня уже не изводил токсикоз и еще не угнетал лишний вес, я могла бы вспоминать с радостью, если бы они не были безнадежно отравлены весной. Нет ничего тоскливее, чем в одиночку стоять на цветущей и благоухающей земле, по которой каждая божья тварь проходит в паре, умильным взглядом лаская своего спутника. Я завидовала гуляющим под руку пожилым супругам и бегущим бок о бок бездомным собакам, завидовала мужу и жене, что ссорились при мне в магазине из-за сорта покупаемой колбасы, завидовала какой-то расхристанной пьяной девахе, что хлестала водку прямо из бутылки, сидя на коленях у своего ухажера… Однажды в мае, смотря в университетском кинозале американский фильм, где показывали панораму Нью-Йорка, я увидела стоящие бок о бок одинаковые небоскребы Центра международной торговли, тогда еще украшавшие Нью-Йорк, и едва справилась со слезами. А выйдя из кинозала, я увидела пару обнимающихся студентов – они сидели на широком прилавке закрывшегося книжного киоска. Девушка что-то рассказывала до боли взволнованным голосом, а парень утешал ее, прижав к себе ее голову. Я спускалась в этот момент по ступеням, но не могла не закрыть глаза. Это был старый, испытанный детский прием: ты чего-то не видишь, значит, этого нет.
Я села на лифт, но поехала не на свой седьмой этаж, а выше – на двадцать второй, оттуда можно было выйти на крышу. Я отнюдь не собиралась с нее бросаться, просто хотела успокоиться. Еще год назад взгляд на мир с университетских высот наполнял меня небывалым счастливым ожиданием. Кто знает, вдруг он подаст мне надежду и теперь?
Университетская крыша располагалась не на самом верху здания (оно заканчивалось шпилем), а примерно на двух третьих его высоты. Она венчала жилые, общежитские, корпуса, и ее обрамляли стройные башенки (некоторые счастливые студенты жили и там – над самой крышей). Крыша всегда казалась мне чем-то вроде общего двора в многоквартирном доме: сюда выходили погулять и покурить, в теплые месяцы здесь загорали, лежа на полотенцах, однажды я видела босоногого студента, несущего через эту крышу-двор кастрюлю с супом. Суп нельзя было расплескать, а беспощадно раскалившийся на солнце черный толь жег студенту пятки. Он уморительно подпрыгивал при ходьбе и старался удержать равновесие…
Сегодня здесь почему-то не было никого. Я прошлась по крыше взад и вперед, посмотрела на утопающую в огнях вечернюю Москву, но легче мне от этого не стало. Тогда я села прямо на теплый еще толь, облокотилась о какой-то выступ и снова прикрыла глаза: теперь так хорошо сидеть здесь под весенним ветром! Кажется, что мира вокруг не существует, нет ни омраченного прошлого, ни затемненного будущего, а настоящее не мучительно, поскольку сейчас мне кажется, будто в нем нет ничего, кроме тепла и ветра…
Странно… я почувствовала внутри себя какой-то беззвучный всплеск. Да, именно так: как будто булькнул суп на плите, и я ощутила этот взлетевший и лопнувший пузырек воздуха. Это не было больно, просто странно.
Отрешенность прошла. Я открыла глаза, убедилась в том, что мир существует, и отчаяние вернулось ко мне в полной мере.
Вечером, уже лежа в постели, я снова ощутила этот необычный всплеск. Чутко прислушиваясь, я ждала повторения, но не дождалась. А на следующий день я снова почувствовала его, и снова вечером перед сном. Так продолжалось дней пять. С каждым разом «всплесков» становилось все больше. Я не утерпела и полезла в свои книги. На этот раз они наконец-то дали верное толкование происходящему – во мне шевелился ребенок.
Осознав это до конца, я какое-то время сидела, застыв, с раскрытой книгой на коленях. Значит, эта огромная голова и маленькое тельце, эти смехотворно поджатые лягушачьи лапки начали шевелиться. Сначала – мои тошнота и слезы, непреодолимое желание поминутно бегать в туалет, собачий нюх на запахи, исчезнувшая талия – была только я, я, заболевшая им. А теперь появился и он сам. Удивительно, но в этот момент мне стало тепло, и я смирилась с происходящим.