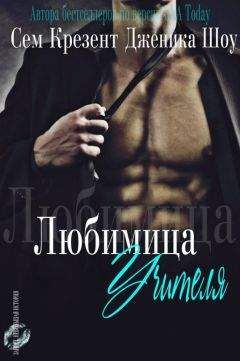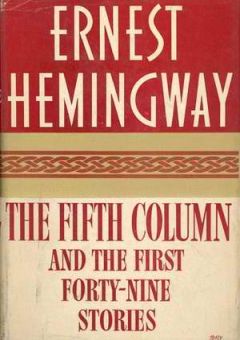Карин Альвтеген - Стыд
Май-Бритт улыбается. Ванья мечтает стать писательницей. Всей душой Май-Бритт желает подруге удачи. Ванья смотрит на часы.
— Эта мысль пришла мне в голову без четверти четыре утра пятнадцатого июня тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Я приняла решение — я переезжаю в Стокгольм. И мы можем уехать вместе. Пусть не в один город, но из этой дыры мы с вами обязательно сбежим.
Май-Бритт и Йоран смеются.
С рассветом к ней возвращается уверенность. Она сделала правильный выбор, они не смогут отнять это у нее. У нее есть замечательная подруга, Ванья. Она всегда рядом, когда Май-Бритт в ней нуждается. Что бы она без нее делала.
Ванья.
И Эллинор.
Май-Бритт прислушалась к тому, что происходило в ванной. Там было тихо. Боль в спине немного ослабла. Осталась лишь ноющая тяжесть, которую можно было терпеть. И ей по-прежнему нужно в туалет.
— Богом клянусь, незнакома я с этой Ваньей.
Май-Бритт фыркнула. Клянись-клянись. Мне все равно. И Ему тоже.
— Скоро меня начнут искать. Я уже полчаса как должна быть у следующего получателя услуг.
Бессмысленно. Она никогда не добьется от нее правды. Еще и описается при этом. Вздохнув, Май-Бритт развернулась и открыла дверь. Эллинор сидела на унитазе, опустив крышку.
— Выходи. Мне нужно в туалет.
Эллинор медленно покачала головой:
— Вы сошли с ума. Чего вы добиваетесь?
— Мне нужно в туалет. Уходи!
Но Эллинор не двинулась с места.
— Я не встану, пока вы не расскажете мне, почему вы решили, что я ее знаю.
Эллинор спокойно откинулась назад и скрестила руки на груди. Устроилась поудобнее и закинула ногу на ногу. Май-Бритт сжала зубы. Если бы самая мысль о том, чтобы прикоснуться к чужому телу, не внушала ей такое отвращение, она бы ее ударила. Дала бы пощечину.
— Тогда я сейчас сделаю это на пол. И ты знаешь, кому придется убирать.
— Пожалуйста.
Эллинор стряхнула что-то со своих брюк. Еще чуть-чуть, и Май-Бритт не выдержит, но она ни за что так не унизится, да еще перед этим мелким, заслуживающим презрения существом, которому, похоже, всегда удается взять верх. А еще она ни в коем случае не должна допустить, чтобы Эллинор обнаружила кровь в моче, потому что тогда эта мелкая предательница включит сирену. Ей оставалось только одно — как бы противно это ни было.
— Она написала кое-что в письме.
В письме? Ну и что она написала?
— Тебя это не касается. Ну что, теперь встанешь?
Эллинор сидела на месте. Май-Бритт начала впадать в отчаяние. Несколько капель мочи она не смогла удержать, и трусы уже намокли.
— Это, наверное, недоразумение, я прошу прощения за то, что заперла тебя. Хорошо? Ну что, теперь ты встанешь?
Со вздохом поднявшись, Эллинор взяла ведро и вышла наконец из ванной. Быстро закрыв дверь, Май-Бритт села на унитаз. И с облегчением почувствовала, как ослабло давление в мочевом пузыре.
Хлопнула входная дверь. Прощай, Эллинор. Мы больше не увидимся.
Неожиданно, без каких бы то ни было предвестий, в горле у нее образовался комок. Сколько она ни пыталась проглотить его, ей это не удавалось. Слезы, беспричинные слезы полились у нее из глаз, и она ничем не могла остановить их. Как будто внутри у нее что-то лопнуло. Она закрыла лицо руками.
Невыносимое горе.
И когда она осознала собственное поражение как неоспоримый факт, ее охватила эта дурацкая тоска. Как же ей хотелось, чтобы хоть один человек, пусть единственный, по собственной воле, а не за плату приходил к ней в дом, хоть ненадолго.
19
Она позвонила на работу и взяла оставшиеся пять дней отпуска. Счет неиспользованным дням она не вела, раньше ее это вообще не интересовало. Она ни разу не использовала до конца полагавшиеся ей пять недель отдыха, и дни накапливались годами. Причиной никто не поинтересовался, руководство ей доверяло. Ее считали ответственным руководителем, который не может отсутствовать на рабочем месте без уважительных оснований.
В следующие дни она навещала Перниллу каждый день после обеда. Известие о том, что из кризисной группы теперь будет приходить только она, Пернилла восприняла без возражений, но и без радости. Моника посчитала это добрым знаком. Ее не отвергали — пока этого достаточно.
Большую часть времени она проводила на улице, гуляя с Даниэллой. Площадка им вскоре надоела, и они начали совершать дальние прогулки. Пусть медленно, но ей все же удалось завоевать доверие Даниэллы, она знала, что это верный путь. К сердцу матери. От матери зависело все. Моника не забывала об этом ни на секунду. Испытывала постоянный страх оттого, что ее прогонят, что Пернилле покажется, что они смогут справиться и без нее.
Пугала сама мысль о том, что ей будут не рады, Моника была готова на все, лишь бы ее не выгнали. Ей так много нужно исправить.
Как-то к Пернилле зашла подруга, и Моника ощутила двойственное чувство, оставив их наедине. Конечно, она была рада за Перниллу, но, с другой стороны, Монике хотелось принимать участие во всем, что происходит в ее жизни, знать, о чем она разговаривала с подругой, делилась ли планами на будущее. Пока она гуляла с Даниэллой, Пернилла обычно отсыпалась. После прогулки Моника старалась задержаться в квартире, чтобы показать, как хорошо они ладят с девочкой. Пернилла чаще всего находилась в это время в спальне, они разговаривали мало, но Моника все равно наслаждалась каждой минутой, проведенной в этом доме. Только взгляд Маттиаса портил ей настроение. Маттиас смотрел на нее в упор, когда она, сидя на полу, играла с Даниэллой.
Впрочем, может, он уже понял, что она здесь с добрыми намерениями, что каждый день она приходит сюда по зову сердца.
Пернилла по большей части молчала, но Моника все равно чувствовала, что помогает — хотя бы тем, что присутствует в квартире, и ощущение покоя не покидало ее еще часа два после ухода. Ей казалось, что с первым этапом ее великой миссии она справилась. И заслужила небольшую награду — чувство облегчения и спокойствия. А еще она теперь четко осознавала бессмысленность всего остального. Как будто шелуха слетела, обнажив самую суть вещей. Но спустя несколько часов сердце ее снова начинало биться учащенно. Она все могла объяснить по науке и прекрасно представляла все физические реакции собственного тела. Ее организм мобилизовывался, увеличивая свои шансы на выживание. Страх гнал кровь к крупным мышцам, печень высвобождала запасы глюкозы, чтобы помочь им справиться с нагрузкой, шум в ушах означал, что сердце работает на повышение давления, а селезенка сокращается и выбрасывает больше кровяных телец, отчего растет содержание кислорода, и в крови начинает бурлить адреналин… но никакие «отлично» ей теперь не помогали. Ее забыли научить, как подчинить себе эти реакции. Тело помогало ей защититься, убежать — но что делать, если бежать некуда? Днем ей часто казалось, что вокруг нее стеклянный шар, и то, что происходит снаружи, ее больше не касается. По вечерам она ездила в спортзал и усиленно тренировалась, но, когда ложилась в кровать, заснуть все равно не удавалось. Едва она гасила лампу, ее охватывало отчаяние. И растерянность. Все мысли, которые она гнала прочь днем, в темноте ночи возвращались. Это было невыносимо. Что она делает? Лучше об этом не думать. Жизнью правит отнюдь не здравый смысл и отнюдь не справедливость — а раз так, то у нее есть право придумать собственную стратегию восстановления порядка. Потому что силы, которые управляют жизнью и смертью, лишены логики и не умеют делать выбор. Принять это нельзя. Надо найти способ с ними расквитаться.