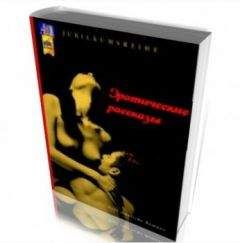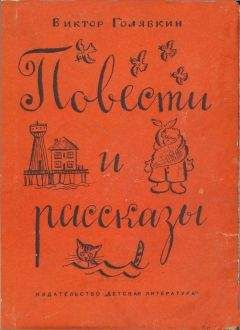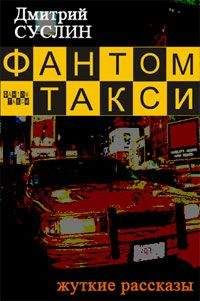Марк Ламброн - Странники в ночи
Приблизительно в это время Тина познакомилась с Энди Уорхолом. Думаю, на «Фабрику» ее привел Грег, и оба они были в полном восторге. Это и понятно: в студии Уорхола, где когда-то действительно помещалась шляпная фабрика, можно было найти конкретное воплощение всего темного и всего светлого, что таилось в их опустошенных душах. Когда-нибудь я напишу исследование об Уорхоле. И объясню, почему именно этому гениальному чудовищу удалось запечатлеть на пленке образ Тины, который я считаю единственно живым и достоверным. Это был двадцатиминутный фильм — больше он ее не снимал — под названием Pearly Queen № 2[30]. Когда я смотрю на эти разрозненные кадры, где Тина говорит сама с собой, глядя в зеркало, или подолгу молчит, не сводя глаз с объектива, а дальше за окном дремлет Нью-Йорк, укутанный снежным одеялом, из-под которого едва доносятся гудки автомобилей, — я знаю, что он просто включил камеру, но каким-то непостижимым образом эта камера сумела показать настоящую Тину. А еще я напишу о том, что я видела там, по соседству с Сорок седьмой улицей, в 1966 году, когда по вечерам мне приходилось подбирать Тину с самого дна, о грязи, об увядших, мертвых цветах. Расскажу о других ночах, десять лет спустя, когда я встречала Энди в ночном клубе «Студио 54» и он — я тогда перекрасилась в блондинку — говорил мне: «At last you look like Tina»[31]. А он в моем восприятии всегда был тем, кого обожатели называли Дрелла — смесь Дракулы и Синдереллы. Они говорили так: «Дрелла сказал, что ты злая. Дрелла думает, что Боб Дилан — ничтожество…» Я расскажу о витаминных коктейлях с метедрином, о других напитках — виски с амфетамином, водке с секоналом, клее с амилнитритом, о том, как особые гурманы делали себе уколы сразу в обе руки, чтобы насладиться одновременным действием кокаина, героина и амфетамина. И напоследок попробую рассказать о неземном очаровании девушек, которым кое-что известно об аде.
С тех пор у меня было много причин думать об Энди. Я видела, как жажда смерти подтачивает красоту молодых американок, видела исхудалые руки, безумные глаза девочек из Новой Англии, в то время как Невинная Дрелла, Дрелла-Дьявол, с упоением рисует цветочки на шелковых экранах. Уорхол говорил, что его любимая музыка — урчание холодильника. Холодильник — это смерть. Холодильник — это Дрелла. Однажды в 1964 году я обратила внимание на то, как он читает: он утыкался носом в книгу или газету так, что бумага оказывалась у самых зрачков. Его глаза искали истину на шероховатой поверхности листа. Истину? Конечно, ведь все лежит на поверхности, в глубине ничего нет. Если он создавал картину, это было лишь отображение образа, копия фотографии. Когда он снимал фильм, то нарочно делал рамки кадра размытыми, чтобы зритель почувствовал: реальность — не более чем целлулоидная пленка. Он обожал «полароиды» за то, что эти аппараты не передают глубины. Нажмешь на кнопку — и все рельефное вмиг станет плоским на картинке, которая тут же выскочит из камеры. Что говорит «полароид»? Как ты воспринимаешь мир? Это решает Дрелла. Дрелла всегда говорит правду. Уорхол, возможно, был величайшим колористом после Матисса, но краски у него были нанесены на черный фон.
Когда я увидела его впервые, у меня возникла незыблемая, абсолютная уверенность, что передо мной — один из ликов смерти. Существо с бледной, угреватой кожей, в белом парике, точно снятом с огородного пугала, берет «полароид» и, любезно улыбаясь, превращает вас в камень. А еще он напоминал старую куклу, обдуваемую невидимым ветром. В те времена он высасывал соки из богатых девушек Верхнего Ист-Сайда — Бэби Джейн Холцер, Эди Седжвик, Тины Уайт. Вокруг него собирался целый зоопарк — полуночники, снобы, неудавшиеся актрисы, бывшие завсегдатаи садомазохистских клубов на Кристофер-стрит. Меня привели на «Фабрику» Грег и Тина: однажды вечером они захотели представить меня своему гуру. У меня было ощущение, словно я попала в Берлин 1925 года. Как будто в этом высеребренном гроте на берегу Ист-Ривер вел съемки Джозеф фон Штернберг. Кажется, в тот вечер там был Нуреев, а еще там было полно разных богатых придурков и молодых людей, витавших в облаках. Все в целом производило впечатление наркотической оргии, причем оргии гомосексуальной. Вы словно оказывались на шахматной доске, где стояли ферзи, слоны, кони и пешки. И все кругом черно-белое: нью-йоркская ночь, сверкающая металлом, прозрачная, — прекрасный фон для лиц, осунувшихся от бессонницы.
Думаю, к тому времени его уже называли «святым Энди». «Фабрика» была похожа на церковь, где приносятся человеческие жертвы: там были свои реликвии, свои пономари, свои чудотворцы. Прихожане этого храма были насквозь пропитаны наркотиками, но все же им требовалась регулярная доза их странном религии. Кому они поклонялись? Преимущественно самим себе, своему медленному умиранию. Выпучив глаза, точно быки, которых ведут на бойню, они благоговейно взирали на икону, изображавшую смерть, — элегантную, насмешливую, немногословную. Им выпала честь быть представленными самой Смерти, она удостоила их небрежного приветствия — и они не помнили себя от радости. Чтобы сделать приятное Дрелле, ученики были готовы на все: уколоться, вскрыть себе вены, прыгнуть с десятого этажа. Там протекал Стикс, самый настоящий Стикс из металла и «снежка». Уорхол использовал людей как батарейки, заимствовал у них энергию. Когда они истощались, он их просто выбрасывал: это был мусор, трэш. Среди нищих духом Энди сиял великолепием, точно архиепископ среди оборванцев.
На полотнах Дреллы были изображены предметы, которые обычно видишь на помойке: банки из-под супа, бутылки из-под кока-колы. А по его мастерской расхаживали живые покойники, из которых высосали кровь. Им пришлось заплатить дань Минотавру — Пикассо тоже поступал так со своими женщинами. По мнению Дреллы, это не имело никакого значения. Кто сейчас помнит имена рабочих, сколачивавших леса для работы в Сикстинской капелле? Но Дрелле еще было нужно, чтобы его паства постоянно менялась. Он приближал к себе лишь немногих — тут играли роль утилитарные соображения либо прелесть новизны, — но только для того, чтобы воспользоваться их деньгами, их влиянием или просто отнять жизнь. Уорхол по сути был серийный убийца — смерть ведь тоже можно размножать посредством трафарета. Он изображал электрические стулья, трупы самоубийц, Мэрилин Монро в виде оранжевого призрака. На пресс-конференции он посылал вместо себя двойников. Они выступали в его парике, посыпанном тальком и обрызганном серебристым лаком, в его очках и для полноты сходства жевали резинку. Иногда он общался с посетителями через одного из своих рабов: долг придворных — возвещать слово повелителя.
К Дрелле нельзя было прикасаться — он болезненно вздрагивал. Возможно, Уорхол вновь обрел целомудрие; возможно, он, подобно польскому священнику, стоял в центре созданного им ада и принуждал людей вокруг имитировать совокупление, чтобы они поняли, как мало это может дать. Sex is so nothing. Секс — это такая безделица. Он выбирал мужчину и женщину или двух мужчин и заставлял их спариваться — ради эксперимента. Жеребец из Бронкса и старлетка, напичканная кокаином? Любопытно. Неуверенный в себе парнишка и прожженная шлюха? Отлично. Ундина и Фредди? Надо попробовать. Гневный взор Дреллы готов был испепелить их, если они не сразу приступали к делу. Надо было платить по счету, тем более что Дрелле особенно нравились молодые тела, привыкшие выставлять себя напоказ. Например, манекенщицы. Когда топ-модель выходит на подиум, на нее устремляются жадные взгляды, полные зависти, ревности, звериной похоти. Она живой катализатор разрушительных процессов, символ всего преходящего: моды сегодняшнего дня, аксессуаров нынешнего сезона, обаяния молодости. Дрелле было известно, что девушки с обложки — это союзницы смерти. В Нью-Йорке заигрывания с бездной обычно принимают за полноту жизни. Уорхол же говорил правду, только и всего. «Фабрику» можно считать макетом будущей Америки, потому что там, у Энди, уже было все: судороги рок-музыки, могущество наркотиков, безрадостный секс, телекамера как оружие клеветы, болезненное влечение к смерти. В 1965 году мы все подверглись уорхолизации, и прежде других — генералы Пентагона. В скором времени во Вьетнаме нам предстояло увидеть целую армию под воздействием психотропных препаратов, массовые потери — по батальону в день, серебристые вертолеты над Меконгом, оранжевые языки напалма, аккуратные, как на картинах ташистов, пятнышки, которые возникали в зелени джунглей от дефолиантов, а также камеры и микрофоны, снимавшие это и передававшие в прямом эфире. Вьетнам стал первой войной в стиле поп-арт. Генерал Уэстморленд был похож на персонажа с картины Дреллы.
Я приведу здесь отрывок из интервью моей приятельницы Эдит Гербер, которое не так давно было напечатано в журнале «Роллинг стоунз». В ее рассказе образ Тины высвечивается с неожиданной стороны.

![Ата Каушутов - Точка зрения (Юмористические рассказы писателей Туркменистана) [сборник]](/uploads/posts/books/228972/228972.jpg)