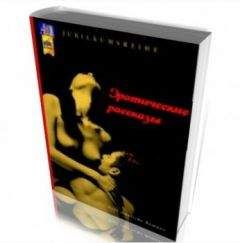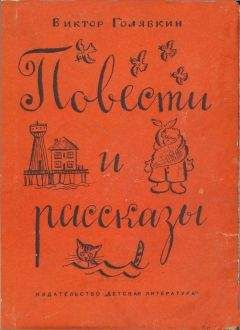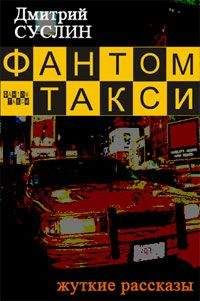Марк Ламброн - Странники в ночи
Я говорила, что почувствовала, как во мне пульсирует живая кровь. И вскоре мне представился случай проверить себя. В 1963 году, во время лечения у доктора Грюнберга, я познакомилась с Дуайтом Тейлором. Это был двадцатидвухлетний парень из Огайо, изучавший антропологию в Колумбийском университете. Дуайт был из учительской семьи, проникшейся рузвельтовским идеализмом. Его отец преклонялся перед Томасом Джефферсоном и Авраамом Линкольном. Такая бескомпромиссная убежденность поразила меня. Я была приучена смотреть на жизнь с позиций аристократии и не имела понятия о том, что существует и другая Америка — одержимая идеей равенства, каждый год перечитывающая Геттисбергскую речь, словно демократические Десять заповедей. Дуайту было безразлично, какую ложу занимают мои родители в «Метрополитенопера», он подходил ко мне с другими мерками. В его отношении к людям не было ни зависти, ни огульного осуждения. Совестливость и реальные дела — только это имело для него значение. Рядом с ним я чувствовала, что становлюсь чище. В его любви ко мне была суровая простота — так любили первые поселенцы, и я упала в его объятия. Можно посмеяться над этим: Тина жила на износ, а я боялась растратить себя, она была искушенной, а я — предельно наивной. Возможно, я не могла отделаться от привитого мне чувства долга по отношению к глубоко лицемерному классу, который меня воспитал. Возможно, встретив Дуайта, я открыла для себя аристократию невинности, побуждавшую к действию и помогавшую забыть прошлое. Напыщенная дурочка, которую Жак видел в Риме, стала поборницей добра, истины и справедливости. Я пыталась рассказать здесь о том, какие манящие горизонты открыла перед нами эпоха Кеннеди. Все эти речи о прогрессе были для одиноких людей словно глоток кислорода. Миллионы юношей и девушек сделали их своим знаменем, чтобы не задохнуться. И я встала под это знамя — конечно, я приняла решение под влиянием другого человека, но приняла его раз и навсегда.
Дуайт был активистом движения «Студенты за демократическое общество», которое возникло за два года до этого в университете Анн-Арбора. Они выступали против холодной войны, против расизма и всесилия бюрократии, за пропорциональное и подлинно демократическое представительство в органах власти, за ликвидацию негритянских гетто, за повышение гражданской ответственности. Нью-йоркское отделение этой организации, где время от времени появлялся ее лидер Том Хейден, было как инкубатор: в нем вызревали идеи, которые завладели людскими умами в течение двух последующих десятилетий. Борьба за мир, установление контроля над деятельностью транснациональных компаний, над состоянием окружающей среды, повышение требовательности к средствам массовой информации, санация и обновление городских кварталов, преодоление табу на межнациональные браки, либерализация применения противозачаточных средств и прерывания беременности — все эти цели впервые были сформулированы там. Студенты спешили покинуть эту лабораторию идей: им не терпелось применить свои познания на практике, приступить к решению неотложных социальных проблем. Еще бы: когда они были скаутами, то приобрели большую сноровку в завязывании узелков. Это было так же захватывающе, как лакомиться черничным вареньем из одной банки с отцами-основателями. Нас вдохновляли песни Боба Дилана и жизнеутверждающие считалки Ричарда Фариньи.
Девушки радовались: их возлюбленные были героями. А героям очень нравилось, что их окружают восхищенные скво, взирающие на них снизу вверх. «В настоящий момент женский вопрос не имеет первостепенного значения», — услышала я на одном собрании. Когда их отцы высаживались в Нормандии, то обходились без помощи женщин: не с Бетти Фрайден же им было советоваться по поводу установки орудий. Настоящая активистка должна была разогревать гамбургеры и печатать листовки на ротапринте. Оба эти занятия не имели ничего общего с тем, что я делала раньше, и потому стали для меня откровением. Никого не смущало то обстоятельство, что я дочь богатых родителей. У моих новых друзей не было сословных предрассудков, характерных для европейцев. Если у активистки имелись средства, единомышленники убеждали ее отдать часть денег на общее дело. Многие мои подруги из Верхнего Ист-Сайда так и поступили. Старая традиция благотворительности — сбор пожертвований для инвалидов войны или сирот — приобретала особую прелесть, когда речь шла о том, чтобы внести залог за арестованного пропагандиста или благоустроить негритянский район где-нибудь в Мичигане. Нет, я не смеюсь над всем этим. Конечно, по сравнению с тем, что случилось позднее, начало нашей деятельности выглядело как беззаботный пикник. Но и тогда наши сердца горели. Кругом было столько событий, которые поражали, ошеломляли, восхищали нас, вызывали негодование или возмущение: гастроли «Битлз» в Нью-Йорке, победа Мохаммеда Али над Сонни Листоном, книга Маршалла Маклуэна «Что такое средства массовой информации», убийство трех молодых борцов за гражданские права негров, совершенное ку-клукс-кланом в штате Миссисипи, первые рейды на Вьетнам; «Одномерный человек» Герберта Маркузе, присуждение Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу, фильм Кубрика «Доктор Стрейнджлав», убийство Малколма Икса, первая мирная демонстрация против вьетнамской войны в Вашингтоне, расовые волнения в Уоттсе, «Белокурое на белокуром», смерть Ленни Брюса от передозировки. Так проходили для нас эти годы, с 1964-го по 1966-й, когда президентом был Джонсон, когда я была с Дуайтом Тейлором.
Я начала писать для бюллетеней «Свободной прессы». Кто составляет листовки, учится писать статьи. Кто пишет статьи, учится сочинять книги. Это школа ремесла. Как-то раз, в 1964 году, редакция «Рэмпартс» попросила меня написать для них репортаж. Им понравилось, они стали заказывать еще. Крупнейшие американские газеты переживали тогда глубокий внутренний кризис. Всем было ясно: время эйфории, живописных видов Хайанниспорта — фамильного поместья Кеннеди, костюмов от Chanel и стероидов ушло безвозвратно. В сознании американцев обозначилась гигантская трещина. Впоследствии мне удалось узнать, какие соображения заставили редактора «Нью-Йорк-таймс», наперекор мнению начальства, привлечь меня к сотрудничеству: я в общем и делом умела писать, я была женщиной, происходила из видной семьи, была близка с «новыми левыми», обладала «внешностью южноамериканской Пассионарии, энергией и чертовской решимостью». Цитирую дословно. Вот так я попала в эту газету.
Но вернемся к Тине. Ее связь с Томом Мэллоем продлилась не слишком долго. Он растворился где-то в Аризоне вместе с новой подругой, ослепительной мексиканкой. Должно быть, они угостили амфетамином гремучую змею. А Тина сошлась с Грегом Чандлером, молодым архитектором, тоже постоянным посетителем клуба «Пепперминт лаундж». Грег фонтанировал идеями, был слегка чокнутым и сидел на таблетках. Дома у него стояли виниловые шезлонги, табуреты из пенопласта, кресла яйцевидной формы. Он обожал новые материалы с эффектными названиями: плексиглас, иноке, полиуретан. Грег украшал белые платья Тины узорами, словно заимствованными с полотен Мондриана или Делоне. Он расписывал ее обнаженное тело, покрывал груди спиралевидными линиями. Грег страшно забавлял Тину. Нельзя сказать, что его замыслы отличались скромностью. Он создал проект искусственного острова, где росли бы секвойи и имелась вертолетная площадка; он хотел, чтобы этот остров стоял на якоре где-то на траверсе Амагансетта. Он хотел установить на Озаркских горах геодезические колпаки, а еще время от времени возвращался к главному делу своей жизни — созданию гигантских ячеистых структур, которые дали бы возможность строить города на сваях, прямо над американскими мегаполисами. Грег говорил, что самое совершенное здание всех времен и народов — это пирамида майя, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом для Белы Лугоши. Такой вот неунывающий псих, всегда ходивший в свитере и кожаной куртке, со стрижкой под Брайана Джонса. Вдвоем с Тиной они посещали магазин «Параферналиа» и танцевали в клубе «Купол». Полжизни они проводили в телефонных разговорах, иногда по нескольку часов подряд не выпуская из рук трубки, а затем ухитрялись побывать за один вечер на нескольких праздниках. Грег любил слушать группы «Ху», «Притти сингс», «Роллинг стоунз». Но не очень любил своего папу, так же как Тина — свою маму.
Когда я пишу эти слова, то думаю о злосчастной судьбе наших родителей, о злосчастной судьбе их детей, блистательных и сеющих смерть. Мы ненавидели наших матерей, образцовых домохозяек 50-х годов, со смешанным чувством любви и неприязни относились к отцам, которые преклонялись перед генералом Макартуром и Милтоном Берлом. В 1965 году каждый из нас стремился изгладить в себе семейные черты и в этом стремлении заходил слишком далеко. Я вспоминаю Тину и ее подружек с их солнечными очками в кричащеяркой оправе, мини-юбками, таблетками амфетамина. Человек со стороны не увидел бы в этом ничего, кроме простой экстравагантности. Но это было грозное оружие, направленное против матерей. Только вот беда: американские матери неуязвимы. Тина и ее подружки могли обстреливать их ракетами с напалмом — они оставались невредимыми, а напалм возвращался, словно бумеранг.

![Ата Каушутов - Точка зрения (Юмористические рассказы писателей Туркменистана) [сборник]](/uploads/posts/books/228972/228972.jpg)