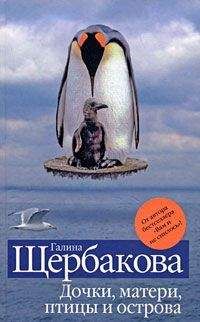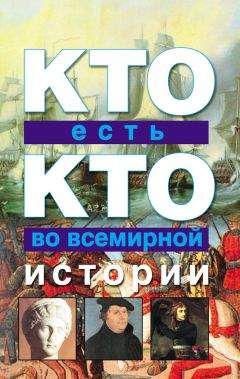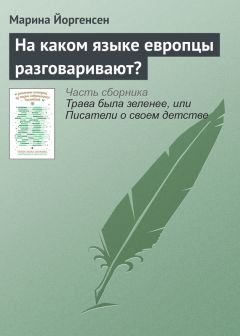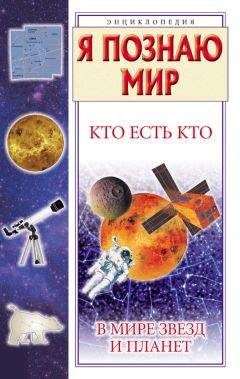Пол Боулз - Нежная добыча
Вэн был в комнате. На улице было светло — странный серый рассвет. Она села, голова кружилась.
— Вэн, — сказала она. Он медленно шел по комнате к окну. А шторы были отдернуты. Прямоугольник тусклого белого неба, и Вэн двигался к нему. Она снова окликнула его. Если Вэн ее и слышал, то не обратил внимания. Она откинулась на подушки и смотрела. Вэн то и дело медленно покачивал головой; Джун опять захотелось плакать, только на сей раз — не о себе. Вполне естественно, что он здесь, медленно бредет по комнате в бледном утреннем свете, покачивая головой из стороны в сторону. Джун вдруг сказала себе: он что-то ищет, он может это найти, — и задрожала от холода. «Он же нашел это, — подумала она, — только делает вид, что не нашел, потому что знает — я за ним наблюдаю». И едва эта мысль сгустилась у нее в голове, Вэн подтянулся и перевалился в окно. Джун закричала, соскочила с кушетки и кинулась через всю комнату. А за окном была лишь безбрежная серая панорама города на заре, язвительно отчетливая в мельчайших деталях. Джун стояла и смотрела: пустые улицы тянулись на много миль во все стороны. Или это каналы? Чужой город.
Свеча с шипеньем догорела и разбудила ее. Некоторые уже погасли. Тени на потолке трепетали, как летучие мыши. В комнате было холодно, а шторы на закрытых окнах выгнулись внутрь под напором ветра. Джун лежала совершенно недвижно. Из камина доносился рассыпчатый, металлический хруст остывавших и опадавших углей. Джун долго не двигалась. Потом вскочила, зажгла весь свет, прошла в спальню и мгновение стояла, глядя на телефон. Ей стало чуть спокойнее. Она сняла халат и открыла чулан, чтобы его туда повесить. Джун знала все вещи Вэна — сейчас там недоставало маленького саквояжа. Ее рот медленно приоткрылся. Она и не подумала прикрыть его ладонью.
Джун влезла в пальто и сняла цепочку с входной двери. По лестничной площадке сновали сквозняки. Она пробежала шесть маршей, один за другим, пока не оказалась у подъезда. Снега намело так, что ступеньки исчезли. Она вышла. На ветру было ужасно холодно, но шальные снежинки еще пролетали. Она немного постояла на месте. Улица не подсказала ей, что делать. Она побрела по глубокому снегу на восток. На углу ей попалось такси — машина осторожно двигалась по Второй авеню, ритмично позвякивая цепями. Джун остановила ее, залезла внутрь.
— Довезите меня до реки, — сказала она, показав в ту сторону.
— Какая улица?
— Любая, только бы туда.
Доехали почти сразу. Она вышла, расплатилась, медленно дошла до конца тротуара и встала, озираясь. Вот теперь действительно светало, но заря вовсе не походила на ту, что она видела из окна. От ветра заходилось дыхание, вода в реке жила. На другом берегу зимнее небо подпирали заводы. В отдалении по фарватеру плясали огни какого-то суденышка. Джун сжала кулаки. Жуткая тоска овладела ею. Ее трясло, но холода она не чувствовала. Вдруг она повернулась. Таксист стоял посреди улицы, дуя на сложенные чашечкой ладони. Он не спускал с нее глаз.
— Вы не меня ждете, а? — спросила она. (Разве это ее голос?)
— Вас, мэм, — с нажимом ответил он.
— Я же вас не просила. — (Вся ее жизнь рассыпается у нее на глазах на мелкие кусочки — почему же голос ее звучит так сурово, так резко и самоуверенно?)
Она отвернулась от таксиста и посмотрела на изменчивую воду. Ей вдруг стало смешно от себя. Она подошла к машине, села и дала свой домашний адрес.
Привратник спал, когда она позвонила в дверь, и даже в вестибюле пришлось почти пять минут ждать, пока лифтер поднимал кабину из подвала. Джун прошла на цыпочках по квартире к себе в комнату и закрыла дверь. Раздевшись, распахнула большое окно и, не глядя в него, легла в постель. Комнату насквозь продувал холодный ветер.
(1950)
перевод: Сергей ХреновКруглая долина
Заброшенный монастырь стоял на небольшой возвышенности посреди обширной росчисти. Земля со всех сторон опускалась покато в спутанные мохнатые джунгли, заполнявшие круглую долину, окруженную отвесными черными утесами. В монастырских дворах росли редкие деревья, и птицы обычно слетались в них из комнат и коридоров, где у них были гнезда. Давным-давно бандиты утащили из здания все, что можно было вынести. Солдаты, устроившие здесь штаб-квартиру, разводили, как и бандиты, костры в огромных сквозистых залах, которые теперь напоминали какие-то древние кухни. А когда изнутри все пропало, казалось, что к монастырю больше никто и близко не подойдет. Заросли ограждали его стеной; первый этаж вскоре совершенно скрылся из виду за деревцами, с которых стекали лианы, цепляя подоконники своими петлями. Луга вокруг пышно заросли; по ним не пролегала ни одна тропа.
На верхнем краю круглой долины с утесов в гигантский котел пара и грома падала река; дальше она скользила вдоль подножья утесов, пока не находила пролом в другом конце долины, откуда благоразумно спешила наружу, без порогов, без каскадов — огромная толстая черная веревка воды быстро текла вниз между отполированных боков каньона. За проломом земля улыбчиво раскрывалась; прямо снаружи на склоне приютилась деревенька. Пока жил монастырь, именно здесь братья добывали себе провиант, поскольку индейцы ни за что не хотели заходить в круглую долину. Много веков назад, когда здание только строилось, Церкви пришлось везти рабочих из другой части страны. Эти люди исстари были врагами здешнего племени и говорили на другом языке; опасности, что местные жители будут с ними общаться, пока они возводят могучие стены, не существовало. И в самом деле, строительство так затянулось, что не успели завершить восточное крыло, как все рабочие один за другим поумирали. Так и случилось, что братья сами заложили конец крыла сплошными стенами, да так и оставили: слепые и недостроенные, те смотрели на черные скалы.
Одно поколение монахов сменяло другое — розовощекие мальчики худели, седели и, в конце концов, умирали, и хоронили их в саду за тем двором, где бил фонтан. А однажды, не так давно, они все просто покинули монастырь; никто не знал, куда они ушли, и никто не подумал их спросить. Именно вскоре после этого пришли сначала бандиты, а за ними солдаты. Теперь же, поскольку индейцы никогда не меняются, никто из деревни по-прежнему не поднимался к проему навестить монастырь. Здесь жил Атлахала; братья не смогли его убить, сдались наконец и ушли. Никого это не удивило, но их уход добавил Атлахале уважения. Все те столетия, что братья жили в монастыре, индейцы удивлялись, почему это Атлахала позволяет им остаться. Теперь, наконец, он их прогнал. Он всегда здесь жил, говорили они, и всегда будет жить, потому что долина — его дом, и уйти из нее он никогда не сможет.
Ранним утром неугомонный Атлахала носился по залам монастыря. Мимо пролетали темные кельи, одна за другой. В маленьком дворике, где нетерпеливые деревца выломали брусчатку, стремясь к солнцу, он задержался. Воздух полнился крохотными звуками: метаниями бабочек, опадающими на землю кусочками листьев и цветков, сам воздух струился мириадами курсов, огибая края вещей, муравьи не оставляли своих нескончаемых трудов в горячей пыли. На солнце ждал он, ловя каждый оттенок звука, света и запаха, — он жил этим ощущением медленного, постоянного распада, который разъедал утро, преобразуя его в день. Когда наступал вечер, он часто проскальзывал за крышу монастыря и сверху озирал темнеющее небо; вдали ревел водопад. Все эти бесчисленные годы каждую ночь витал он над долиной, стремглав кидался вниз, становясь на несколько минут или часов летучей мышью, леопардом, ночной бабочкой, потом возвращался к покойной недвижности в центре пространства, замкнутого утесами. Когда выстроили монастырь, он зачастил в комнаты, где ему впервые удалось увидеть бессмысленные жесты человеческой жизни.
А однажды вечером он без всякой цели стал одним из молодых братьев. Ощущение оказалось новым — странно богатым и сложным и в то же время невыносимо душным, точно любую другую возможность, помимо заключения в крошечном, изолированном мирке причины и следствия, у него отобрали навсегда. Превратившись в брата, он подошел и встал у окна, разглядывая небо и впервые увидев не звезды, а пространство между ними и за ними. И в тот же миг испытал порыв уйти, шагнуть из той скорлупки страдания, в которой поселился на миг, — однако слабое любопытство вынудило его помедлить и отведать еще капельку непривычного чувства. Он задержался; брат умоляюще воздел руки к небу. Впервые Атлахала ощутил сопротивление, трепет противоборства. Восхитительно было чувствовать, как молодой человек стремился освободиться от его присутствия, и неизмеримо сладко — оставаться в нем. Затем брат с рыданием метнулся в другой угол кельи и схватил со стены тяжелый кожаный хлыст. Сорвав одежды, он принялся неистово стегать себя. При первом ударе Атлахала уже готов был отпустить его, но сразу понял, что внутренняя боль нарастает с каждым ударом извне, а потому остался и чувствовал, как, бичуя себя, человек слабеет. Закончив и прочитав молитву, брат добрался до своего убогого ложа и уснул, весь в слезах, а Атлахала выскользнул из него тайком и проник в птицу, коротавшую ночь в кроне огромного дерева на краю джунглей, напряженно прислушиваясь к ночным звукам и крича время от времени.