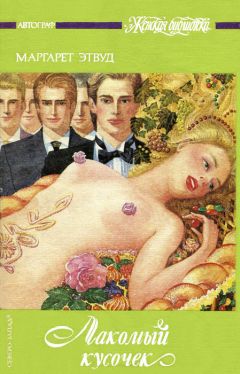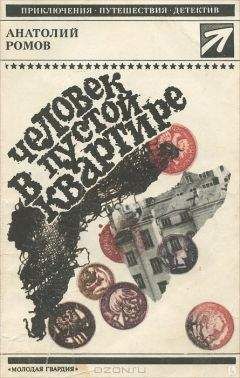Маргарет Этвуд - Постижение
Я еще раз подымаюсь по ступенькам в обрыве, хочу посмотреть, не забыли ли они чего-нибудь. Сойки на своем месте, скачут с ветки на ветку, кричат, подают сигналы — общаются; при моем появлении перебираются повыше, они все еще не решили, можно мне доверять или нет. Дом стоит в том же виде, в каком был, когда мы приехали. Появится Эванс, и я захлопну замок.
— Надо поднять из воды лодки, пока он не приехал, — говорю я им, сойдя к мосткам. — Их место в сарае.
— Будет исполнено, — отвечает Дэвид и смотрит, который час. Но они не встают с места, они вытащили камеру и обсуждают свой фильм. Рядом стоит сумка на молниях, в которой они возят кинооборудование, и штатив, и катушки с пленкой в жестянках. — Я считаю, недели через две-три можно начать монтаж, — произносит Дэвид, играя профессионала. — Как приедем, сразу отдалим проявить.
— Последней пленки еще немного осталось, — говорит Анна. — Что же вы ее-то не снимете? Меня сняли, а ее нет.
И смотрит на меня, из ноздрей и рта у нее идет дым.
— А вот это идея, — говорит Дэвид. — Мы все фигурируем в фильме, кроме нее. — Он оценивающе приглядывается ко мне. — Только вот куда бы нам ее воткнуть?
Немного погодя они встают, поднимают из воды красное каноэ и, держа один за нос, другой за корму, уносят вверх. Я остаюсь на мостках вдвоем с Анной.
— У меня нос не лупится? — спрашивает она и трет его пальцем. Потом достает из сумочки круглую позолоченную пудреницу с фиалками на крышке. Открывает ее и обнажает передо мной свое второе «я»: обводит кончиком пальца рот, правый уголок, левый уголок, потом отвинчивает розовую трубочку помады, ставит точку на скулах и постепенно размазывает их, изменяя свой овал лица, верша единственный вид магии, который ей доступен.
Она восседает на рюкзаке, будто одалиска на пуфике, щеки нарумянены, вокруг глаз черные тени, красна как кровь, черна как ночь — изрядно помятый рисунок, сама срисована с какой-то женщины, а та тоже была подражанием несуществующему оригиналу, ангелу с гладким женским телом, витающему в тех же небесах, где Господь Бог есть круг; подражание пленной принцессе, которая томится в чьем-то мозгу. Бедная узница, ей нельзя ни есть, ни испражняться, ни плакать, ни родить. Она снимает или надевает одежду — плоский картонный гардероб, при лампе-вспышке совокупляется с мужским торсом, в то время как мозг ее наблюдает из застекленной кабины управления в другом конце комнаты, на лице ее сменяются гримасы восторга и упоения, и это — все. Ей не скучно, у нее нет других интересов.
Анна сидит, в ее глазницах тени, череп со свечой. Она защелкивает пудреницу и гасит окурок о доски; я вспоминаю, как она плакала, карабкаясь по песчаному откосу, это было вчера, а теперь она кристаллизовалась. Машина действует постепенно, отнимает от человека понемногу, и остается одна оболочка. Пока они ограничивались умершими, это еще ладно, мертвые за себя постоят, быть полумертвыми много хуже. Они и друг друга умерщвляют, сами того не ведая. Я расстегиваю молнию на их сумке и вынимаю жестянки с пленкой.
— Что это ты делаешь? — спрашивает Анна равнодушно.
Стоя в ярком солнечном свете, я выматываю пленку и опускаю спиралями в озеро.
— Это ты зря, — говорит Анна, — Они тебя убьют.
Но сама не вмешивается и не зовет их.
Вымотав всю пленку, я открываю сзади объектив камеры. Пленка в воде, отягощенная кассетами, оседает кольцами на песчаное дно; невидимые пленные образцы уплывают в озеро, как головастики: Джо и Дэвид, как лесорубы, над покоренным бревном, скрестив руки на груди; Анна нагишом, прыгающая в воду с мостков, одна рука вскинута над головой, сотни крохотных голых Анн, которые не будут больше томиться в стеклянных баночках по полкам.
Я разглядываю ее, хочу увидеть перемены, вызванные освобождением, но зеленые глаза на эмалевом лице смотрят все так же.
— Зададут они тебе, — говорит она мрачно, как пророчица. — Зря ты это сделала.
Они уже появились наверху над нами и спускаются за второй лодкой. Но я быстро подбегаю к ней, переворачиваю днищем вниз, забрасываю внутрь весло и тащу по мосткам к воде.
— Эй! — кричит Дэвид. — Ты что делаешь?
Они уже почти спустились, Анна наблюдает за мной, кулак у рта, не может решиться: сказать им или нет, молчание — соучастие.
Я сталкиваю лодку кормой в воду, приседаю, прыгаю в нее и отпихиваюсь от мостков.
— Она вашу пленку выбросила, — докладывает Анна у меня за спиной.
Вонзаю весло в воду, не оборачиваясь, понимаю, что они заглядывают с мостков в озеро.
— Вот дрянь! — стонет Дэвид. — Ах дрянь, надо же, какая дрянь! Ты почему ее не остановила?
Только у песчаного мыса я оглядываюсь, Анна стоит, равнодушно свесив руки, она ни при чем; Дэвид опустился на колени и выуживает из воды пленку, вытягивает горстями, как спагетти, хотя понимает, что это бесполезно — все уже уплыло.
А Джо там нет. Он вдруг появляется на верху песчаного мыса, бежит, спотыкается. В бешенстве выкрикивает мое имя, будь у него камень под рукой, он бы его в меня запустил.
Каноэ скользит, унося нас, вдвоем, за мыс, за склоненные деревья, прочь с их глаз. Теперь уже поздно им бежать за красным каноэ и плыть в погоню; им, наверно, это и в голову не пришло, неожиданное нападение приносит победу, потому что порождает у противника растерянность. Цель моя ясна. По-видимому, этот план уже давно сложился у меня в голове, еще не знаю, с каких пор.
Я веду лодку под самыми деревьями, лодка и руки в одном движении, амфибия; сзади вода смыкается, не сохраняя следов. Суша изгибается, и мы делаем поворот, здесь узкость, протока, а потом берега раздаются — и я буду в безопасности, спрятана в прибрежном лабиринте.
Тут в воде камни, большие бурые валуны, темнеющие, как грозовые тучи, как угроза, — надежное заграждение. Берега справа и слева крутые — отвесные скалы, увитые ползучими растениями. Дно, а когда-то берег, косо повышается, здесь теперь так мелко, что лодке с мотором не пройти. Еще один поворот — и мы в заливе, собственно, это — топь, со всех сторон окруженная сушей, тонкий слой тепловатой Воды, из черной растительной гущи высовывают головы камыши и рогозы и торчат культи пней — все, что осталось от высоких, как мачты, деревьев. Сюда я когда-то повыбрасывала мертвых и вымыла банки и бутылки.
Моя лодка качается на воде, дальше грести нет смысла, там завал: деревья, которые не успели срубить, когда подымали воду, лежат на боку, бледно-серые, судорожно выставив выбеленные, оголенные короны корней; на размокших стволах поселились растения, питающиеся распадом, — багульник и насекомоядная росянка, ее крохотные, с ноготок, листики утыканы красными волосками, а из лиственных розеток подымаются белоснежные цветки — плоть мошек и комаров, пресуществленная в лепестки, метаморфоза.
Я ложусь на дно своего каноэ и жду. Стоячая вода набирает жар; с берега, из лесу, слышно птиц; дятел, еще где-то дрозд. Сквозь деревья проглядывает солнце; болото вокруг меня парит, кипит, энергия распада воплощается в рост, в зеленое пламя. Я вспомнила ту цаплю: теперь она уже превратилась в насекомых, лягушек, рыб, в других цапель. Мое тело тоже подвержено изменениям, растительно-животное существо во мне разрастается, выпускает нити; и я благополучно переправляю его через жизнь к смерти; я размножаюсь.
Меня разбудил приближающийся стук мотора. Это там, на озере, Эванс, надо полагать. Я вытаскиваю каноэ на берег, привязываю чалку к дереву. С этой стороны они меня не ждут, но я должна удостовериться, что они в самом деле уехали, не то еще сделают вид, будто уплыли, а сами останутся и затаятся, чтобы поймать меня, когда я вернусь, это на них похоже.
Лесом тут не больше четверти мили, Иду, пригибаясь под ветвями, смотрю, чтобы не оступиться, не сбиться с давно проложенного зашифрованного следа, который ведет к бывшей лаборатории, к банкам на полках; если не знать, что тропа проходит здесь, нипочем ее не углядеть.
Когда Эванс пристает к мосткам, я уже нахожусь поблизости, лежу на животе за поленницей и прижимаю голову к земле. Вижу их сквозь стебли травы.
Они нагибаются, укладывают вещи в моторку, интересно, мои тоже? Одежду, наброски рисунков…
Стоят, разговаривают с Эвансом, голоса тихие, не разобрать — должно быть, объясняют ему, придумали, наверно, что-нибудь, какое-нибудь происшествие, а то ему непонятно, почему меня нет, А может, строят планы, разрабатывают стратегию, как меня поймать. Неужели они действительно уедут, махнув на меня рукой, скроются в катакомбах большого города, а меня признают пропавшей без вести и задвинут в дальний угол своей памяти, вместе со старой одеждой и вышедшими из моды словечками? И скоро я буду для них таким же позапрошлым днем, как стрижка ежиком и песни времен второй мировой войны — так, полузабытое лицо на фотографии школьного выпуска или медалька, снятая у пленного противника; сувенирчик, а может даже и того смутней.