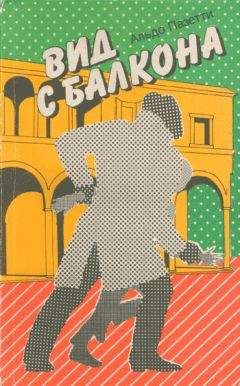Мария Голованивская - Пангея
Лаврика не приняли в театральный институт. Он переоценил свое обаяние и плохо подготовился. Больше всего в этом провале его огорчило, что, оказывается, на свете многие могут очаровывать и гипнотизировать людей не хуже, чем он.
Невыносимое открытие.
Он признался Ханне.
Ханна принесла ему стопку книг с душевными рецептами. Утешительными, оздоровительными, полными горьких истин.
Он сплюнул. Оказалось не то.
Открыл одну книгу, другую и почувствовал, что Ханна больше никогда не поймет его. Но разве без этого нельзя продолжать?
Ханна рассказала ему о Боге, о котором он множество раз слышал и без того.
— Мутотень, про которую бормочут старухи. Слова молитвы, стертые, как пятаки. Запах дурной стороны, в которую пойдешь и потеряешь себя.
Рассказ Ханны о Христе пришелся больше.
— Гады и предатели, я таких знаю, — сказал Лаврик, с тенью интереса дослушавший историю до конца. Ханна рассмеялась в ответ:
— Они, конечно, кричали «распни его», но если бы они не верили, не было бы христианства.
— Холуи, — злобно сказал Лаврик, — каждого из них надо распять.
— Я мечтал бы сыграть Христа, — заключил он, — но Христа необычного. Христа, мстящего за свои обиды.
Когда через год ему позвонили и предложили роль, он был уже совсем другим Лавриком, мутным, раздавленным, жаждущим мщения, но — о чудо! — дела его вновь пошли в гору: он сыграл Ромео, пропитанного ненавистью ко всему сущему, потом он сыграл современную роль — молодого банкира, который мстит обидчикам своей матери, а потом, сыграв в общей сложности добрую дюжину ролей, он без малейших проблем поступил в театральный институт и закончил его, превратившись в модного молодого актера с широкой «гаммой возможностей» — так было указано в его пухлом от фотографий досье.
Он сделался упоенным интриганом. Он сочинял подметные письма, когда желал устранить другого претендента на желаемую им роль, дружил с нужными людьми, непременно наполняясь презрением и приуменьшая их и без того скромные достоинства, соблазнял невинных, подталкивал к дурным поступкам, внутренне наслаждаясь беспомощным барахтаньем людишек в тех обстоятельствах, которые порождали дурные дела.
Лаврик научился обманывать и не платить. Он существенно недоплатил рабочим, строившим его дом, пригрозив доносом на них в полицию.
В кафе или ресторане, когда он ел не один и официант приносил счет, он всегда изображал рассеянность или задумчивость и никогда даже не доставал кошелька.
Он недоплачивал домработнице, аккуратной и старательной румыночке Аните, которая каждый раз роняла молчаливые слезы от недосчета, шоферу, садовнику, он в крайнем случае куда-то еще пристраивал их подработать, по знакомству, и считал, что этого вполне достаточно для компенсации их не бог весть каких усилий.
Он запретил себе благодарить.
Он решил, что благодарность — это удел неуверенных в себе людей, и выработал свой ответ вместо спасибо: «Ну-ну», — говорил Лаврик и отворачивался.
Ханна считала, что он очень несчастен и нуждается в помощи. Она жалела его. Она всегда помогала ему чем могла, что-то привозила, отвозила, кому-то по его поручению звонила, договаривалась, улаживала его дела. Она не ревновала его к его связям, по-прежнему охраняя свою девственность, не из принципа даже, а из какого-то дремучего страха забеременеть и сломать этим и свою жизнь, и жизнь малыша. Зная эту ее целомудренность, многие распалялись и пытались добиться ее расположения, но она преданно служила Лаврику, и все знали, что у нее есть жених, ее детская любовь, которая в ее жизни все — и радость, и страх, и надежда.
Лаврик прекрасно умел казаться надеждой.
Само предварительное заключение и этап Лаврик пережил тяжело: с трудом отбивался от приставаний, многократно был бит, он задыхался от запаха человечины, его тошнило от вонючих брызг, показных отрыжек, грязных пальцев, гноя, спермы, что проливалась, как ему казалось, литрами каждую ночь почти под каждой плесневелой простыней. Но хуже было другое — прозвище Красотка, которое опережало его, как обычно опережает слава, он только делал шаг в этапную машину или железнодорожный вагон, а там его уже окликали, уже цокали языком.
В место отбывания наказания он прибыл летом, и это холодное лето помогло ему. Сырость и плесень как будто пробрались в его легкие, и он тяжко заболел — чахоткой, провалялся в медсанчасти целый месяц, превратившись в такого же серого и немощного зэка, как и все.
За этот месяц в колонии произошел пересменок, новое начальство сжалилось над ним (кто-то даже вспомнил его в роли ковбоя) и направило на ремонт водокачки, от которой питался и лагерь, и соседний поселочек, давно уже расположившийся при лагере; жила там и обслуга, и тюремщики, и кое-кто из бывших зэков, ехать им было некуда, вот и остались на поселении. Бытовали они неплохо, без зверств, сложившимся укладом, не без ярких событий от водки и супружеских измен, пару раз даже летали пули, но в целом колония и поселок обнимали друг друга теплым объятием, и в дымке над крышами домов, несмотря на извечную разбитость и измученность грязных дорог, читалось отчетливое подобие уюта. Лаврик несколько месяцев сооружал строительные леса, неумело сколачивая деревянные стропила, сначала руки не слушались его, молоток бил по пальцам, отбивая ногти до синевы, но потом дело заладилось, он втянулся, полюбил обдирать штукатурку и шкурить, разглядывать стену на свет, приноравливаясь к его неровным потокам, идущим сквозь крошечные окна. Он счищал плесень и разговаривал с ней, гнал ее, хвалил стену, когда она легко отторгала ненужное, он научился очень точно улавливать нужный луч, ласкать его прыткое длинное тельце, щекотать кистью его сияющее брюшко, изо дня в день, из месяца в месяц почти полгода он один, без напарника, штукатурил и белил, досконально уже изучив причудливый характер этих округлостей и впадин — округлостей, когда работал снаружи, впадин, когда наглаживал стены изнутри.
Коза к нему пришла, похоже, ничейная, белоснежная, он все ждал, что кто-то придет за ней, волновался, да так никто и не пришел, и он оставлял ей от пайка, а потом, когда позволили ему иногда ночевать на водокачке, устроился спать подле нее и наладился кое-как доить в миску, и вроде как даже стала она ему родной. А потом прибилась и кошка. Страшная и сильно битая, пришла и осталась, научилась урчать, скакала по лесам, устраивалась в узком оконном проеме подремать, и Лаврик умилялся ей и брал ее к себе прикорнуть.
Когда Ханна отправилась к нему на свидание, она привезла ему, помимо теплого костюма, носков и копченых колбас, кошачьего корма — много и разного — это единственное, о чем он слезно просил ее. «Странный он сделался, — думала Ханна, читая эти его мольбы. — Может, тронулся умом?» Но просьбу исполнила, корм привезла.
На вершине водокачки гудел ветер. Он плакал под этот вой от страха, что судьба переменится и его поставят на другую работу, а там, на этой другой работе, портняжьей или еще какой, начнут мучить, унижать, хихикать в спину.
Бесконечная, теперь уже белая стена тоже изучила его. Знала его прикосновения, цвет его глаз, знала мысли, от которых он улыбался, и воспоминания, которые по первости еще приходили и от которых он сильно мрачнел.
Он быстро перестал терзаться вопросом, почему именно он должен был положить конец этому старикану, он тысячу раз досконально вспоминал тот день, когда двинулся навстречу этой козе, кошке и обласканным стенам, но не ответа он искал, а подсказки, на что опереться и куда идти.
Увидев Лаврентия, Ханна едва узнала его. Он был страшно худ, некрасив и рассеян, он не спрашивал ее о городской жизни, а только вертел головой в разные стороны, как будто ища что-то глазами.
— Ты тяжело болел? — спросила она.
— Да что ты, — ответил Лаврентий, разом посветлев, — эта болезнь спасла меня, она помогла мне найти это место.
Ханна все услышала в этом ответе и ничего не спросила.
— Вот твой корм, — она распаковала сумку, вынула сверток и протянула его ему.
Лаврентий просиял:
— Это для Моники, — сказал он, — она очень важный для меня человек.
— Познакомишь? — аккуратно поинтересовалась Ханна.
Лаврик так и не спросил ее ни о чем и ни о ком.
Ханна боялась окончательно удостовериться в его безумии и сама не начинала никаких разговоров.
За примерное поведение Лаврентию и его невесте разрешили вместе отправиться на водокачку. Они пошли наутро, вышли очень рано, но Ханна не заметила раннего часа, потому что и так не сомкнула глаз в местной гостиничке, где не было горячей воды, а туалет один на всех, деревенский, во дворе.
Они шли молча.
Она хотела было рассказать о своей учебе, но осеклась.
Она хотела передать ему письма от немногочисленных друзей, и главное — от родителей, но пока не стала.