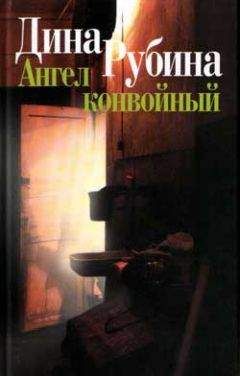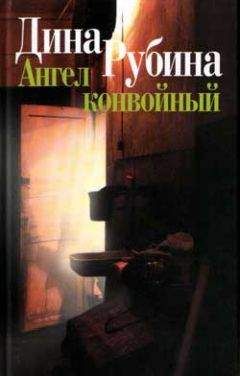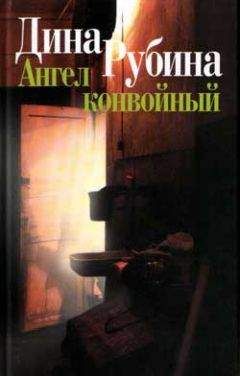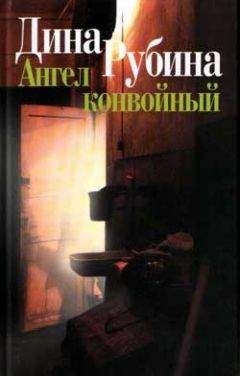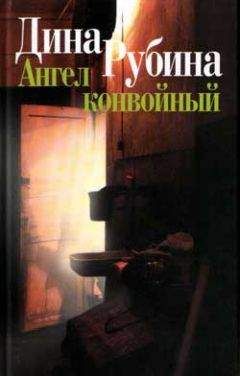Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Бледный, опрятного нездоровия господин читал в оригинале «Комедию», увы, не по венецианскому, середины XVI века, изданию, канонизировавшему эпитет «Божественная» (боязно врать в моем возрасте), но все же солидную, фамильную книгу читал, отчеркивая ногтем строчки букв в трехстишиях, спускавшихся, как лестница с небес, отвердевавших резною колонной по центру страницы. Мне повезло его разговорить. Если старец, доверяя себе, самолично писал предсказания, то почтительный рыбарь у океана рифм осторожным неводом вылавливал оракулы в поэтическом акмэ тысячелетия; «Комедия» — кладезь несметных сбываний, каждый стих в ней, пронизанный мистикой и политикой, солнцем надмир-ным и солнцем земным, а еще есть в «Комедии» подземное солнце герметики, укромной науки, одному Данте удалось залучить к себе все три диска, — каждый стих бередит будущее знанием тайн, недоступных вульгарным «Центуриям». (Ауробиндо говорил, что создатель «Центурий» — еврей, евреи же той эпохи владели великими тайнами, встрял я в речь бледного господина, а он дланью книжника реплику отвел.) Он объяснял мне закон предсказательной магии, толкуемый в множащихся смыслах, будто в бронзовых, из азиатской усыпальницы, зеркалах, показывал оккультные преимущества терцин над катренами, троичного сцепления-перетекания над туповатой, замкнутой на себе четверней.
Для пейзажа и жанра дочерям надо было прийти за отцами, антигонами молчаливой любви забрать с поля боя пернатого крошку-каллиграфа и колдуна трехчастного складня, я воображал, возможно, несуществующих дочерей, их упрямство, прямые волосы вдоль продолговатых лиц, суровый свет заботы, все подлаживалось к цитате, слишком ценил ее, чтобы пробрасываться. Вот эти слова из книги историка, психолога, пророка: «Кто бы ни прочел душераздирающие письма, которыми обменивались Галилей и его дочь, монахиня, умирающая от туберкулеза в своей келье, когда ему было запрещено до конца дней покидать Флоренцию и когда он ослеп, он, впервые увидевший горы на Луне, фазы Венеры и спутники Юпитера, или описание отношений между дочерями Джона Мильтона и поэтом, который в молодости навестил слепого Галилея во Флоренции, а потом сам ослеп и целиком зависел от своих дочерей, посвятив им „Потерянный рай“, — тот поймет, что Антигона, отправившаяся в ссылку со своим слепым отцом, могла быть не только мифологической героиней».
Дочери не пришли. Они или не были рождены — как важно вовремя родить дочь, дабы успела стать праведной, или не могли нарушить зарок, обязывающий антигон приходить за слепыми отцами. Зрячий до упадочной дряхлости обходится без дудки, клюки и девичьего плеча на подпору, зрячий сам себе поводырь, своими веждами проницает Коринф и куда ставить сандалию, куда посох втыкать, в слепцах зато эпос, дорога и мужество, степная, ковыльная песнь без оглядки, никто, кроме утопленных бандуристов, не спел об украинском голоде, а дочери не пришли.
— У нас не получилось ничего, — повторил англичанин. — Мы были разбредающиеся честолюбцы, поглощенные тем, как развить свое «я». Европейское одиночество, в нем, эгоисты, и остались, не поборов тоску. Предупреждала Мать ашрама: община, связь, объединенье душ, нет иного способа добиться высших состояний. И пересказывала сон, сквозь лиловый ливень — струения нефизических тел, свободно спаянный союз, эфирная коммуна, ночью побывала на самом верху, оттуда увидела. Хорошо, говорю, община так община, как только перейдем в бестелесность, вопросы отпадут, но, пока сохраняется плоть, поделитесь, каким будет материальный остов жизни, хозяйственные основы ее, и нашим пропитанием интересуюсь, и чтобы не зарасти грязью в городе Пондишери, не подозревающем о глупостях санитарии. Экономика в превратном, западном смысле, отвечают мне, не понадобится, будем доедать остатки сельхозпродукции, а все внимание работе в высших планах, левитируем к светозарному телу без органов. Когда до него доберемся, поцелуи окажутся затруднительными, по-кембриджски шутил учитель, любил посмеяться, это зафиксировано в стенограммах бесед.
Из щели снова выполз ханыга, его худые члены дрожали. Во второе облагодетельствование он верил не больше, чем во второе пришествие, верить в это было нельзя, но монета, ни разу не перепадавшая ему от жестокосердных пайщиков улицы, разрушила все его представления, посему он надеялся, как£ показали события, неспроста. Щелчком большого и среднего пальцев левой руки британец подозвал его, велев не жеманиться, указательным провел ю воздуху черту, за которую побирушка не имел права ступать, их разделяло, стало быть, метра три, правой достал из внутреннего кармана (френч незаметно отворился) бумажку с портретом еврейского классика в ермолке и как бы помавающе повел купюрой в адрес бездомного — по всем статьям физики, распространявшимся и на этот наэлектризованный вечер, ассигнация долететь не могла, однако долетела, на выпущенных планерных крылышках спикц ровала в нужду, ведомая обеспечением казначейства… Впредь без стеснений, дружище, поощрил даритель, для тебя найдем, он улыбался; я был бы не на шутку испуган, если б мне подали милостыню, так улыбаясь. Доходягу сдуло.
— Гадалкам решать, разочаровался ли Дуробиндо в завершающие десять лет своей жизни, заключенные отшельничеством, когда — об этом пристрастно и красочно у пламенников, ярых поборников, тут они не погрешают — его сознание блуждало в высях, и петельки, стежочка не хватило, чтобы силой мысли избавиться от ветхой оболочки. Думаю, учитель понял, что мировые вибрации, привлекаемые им в союз, не позволят ему совершить этот шаг. Думаю, это понимала и Мать, сумевшая в течение полугода не есть плотскую пищу, но не трансформировать свою плотскость. Он и она застряли на перепутье между человеческим и внечеловеческим, уже не вполне люди, они несли в себе достаточно бренного материала, и материя не поддалась увещеваньям души, доверившись лишь поручительству смерти, а та расправилась с их телами по своей обычной методе. Я плохой плакальщик и уехал прежде, чем распоясалась поминальная оргия — гора цветов, ручьями слезы, слащавые мемуары из репродукторов оглушительной ложью падали на махонькое, выставленное для обзора и прощания иссохшее старушечье тельце, но не прежде, чем оформилась неудача. Что меня занимает сегодня, так это последнее, не оконченное учителем провеивание, разграничение пригодного и непригодного: обмолоченный хлеб подкидывают веялом, деревянной лопатой, наискось против ветра, и более веское зерно ложится впереди ворохом, а плевелы, мякина с другими легкими остатками отлетают под ветер. Легкие остатки, плевелы, мякина перевесили тяжесть зерна, плен, темница невытравимы из нас как существ, слепленных из этого плена, отсюда анахоретское отчаяние учителя, вывод не мысли его, а присутствия в знании, сверхдальнем сознании, позвольте уж, соответствуя стилистической моде, отщепить приставку от корня. Самозаточенье Ауробиндо было таким же поступком чести, как возврат карточного долга или пуля в лоб, если проигранное вернуть невозможно.
— А гармония пропала, я ее не чувствую. Я не солипсист, но, когда нет того, что раньше непререкаемо было, это и является утратой, утратой для всех. Ну, пока, — скривился он, словно это я держал его на пути, усталым фланером добрел до пересечения Алленби с Геулой и свернул к пенисто-винному морю, более греческому, чем иудейскому.
В полуподвальном, с цементными стенами зале румын-работяг в Тель-Авиве было накурено, шумно, голос герольда, возглашавшего лотерею, перекрикивал национальную музыку, звенели пивные бутылки. Здесь отдыхал наемный труд, развлечения труда предпочтительней увеселений праздности. Приходили и приходили, много строек в стране. Опрятные одежды, умытые лица, скромность нравов, никакого разгула. Субботнее охмеление и небольшое, в их мужском мире, количество женщин, принарядившихся матрон, не девиц. На пользу гудящим ногам был бы основательный отдых, такт диктовал не мешать чужой потехе, уже сдвигавшей столы для хороводов; я выбрал среднее — откланялся часу в десятом, в добрых отношениях с пирующими, не рискуя быть обвиненным ни в назойливости, ни в снобизме. Очень важно ни в чем не быть обвиненным.
Чудо
Загадочное пророчество о том, что времени не будет. Вдумайся и войди в состояние, посетившее князя на садовой скамейке. Но если все фатально изменится, то не останется ни тебя прошлого, ни памяти твоей о прошлом, и не найдется сознания, чтобы оценить перемену. Так же точно не удалось бы ни ощутить, ни познать, когда б некая сила повсеместно и пропорционально увеличила или уменьшила размеры людей, событий, предметов и сущностей, сохранив незыблемым общий принцип соотношений, генеральный масштаб. Такие вещи невидимы, непроницаемы, не связаны с миром.
А нужно зримое чудо, сказано ж было, как его ждут. Вот и поэт садился за стол в расчете на непоправимое счастье, пробовал написать несколько строк при зиянии мыслей и спустя пять минут, два-три часа, полторы безнадежности и шесть-семь папирос, которые еще надо было сберечь до утра, к приходу нового отвращения, понимал, что опять ничего не случится, будет игнавия, великая лень и запустелая мерзость, а если бы что-нибудь и возникло как озарение, то посеяло б ужас, что главного не показали или его не бывает.