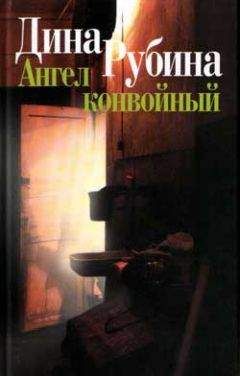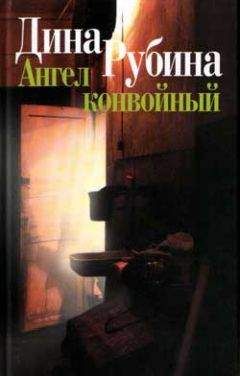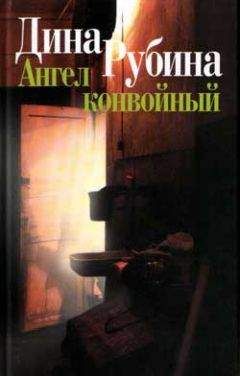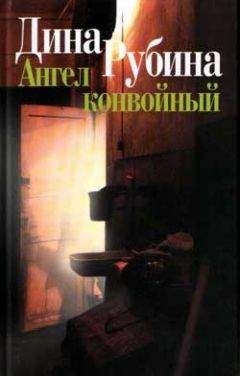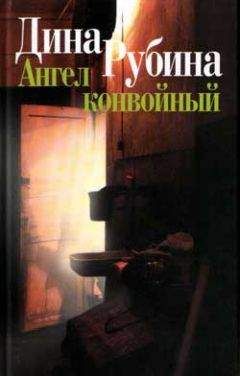Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Пустота Ионы в рассказе Камю не несет победительных смыслов. Из нее убрано все, кроме пренебрежимо крохотных, исключающих адекватное прочтение буковок. Без претензии и специальной концепции, чистый холст тождествен опустошенности своей чистоты, тождествен резиньяции живописца, его прогрессирующей несостоятельности что-либо продемонстрировать, показать, высказать — усугубляющее пустоту молчание засевшего на антресолях Ионы. Это не ужасное и грандиозное молчание, что предшествует в «Махабхарате» стихам «Бхагават-гиты», возникающим в развернутое до масштабов космического цикла мгновение «самого неустойчивого из равновесий» (В. Семенцов), перед тем как Пандавы сойдутся в бою с Кауравами, и не хрестоматийная до зубовного скрежета дзенская тишина Джона Кейджа, а предельно деконцептуализированная немота, не пожалованная, как и пустота Ионы; и легчайшей пыльцой идеологических смыслов, этих сыплющихся и осеменяющих прахов, атрибутируемых значению и поучению. Доминирующий тон рассказа — скепсис, грусть стоицизма, поиск милости и тишины, примиряющих противоречий между объединением и отъединением, одинаково необязательными перед лицом более страшных потерь. Здесь настроение позднего Камю, независимость его одиночества, отвратительного левым и правым, глубина разочарованья его в волевом перекраивании мира. В Шведских речах он отстаивал как будто иное, но из Стокгольма вещал публицист, патентованный, с премиальным дипломом наставник заблудших, а в «Ионе» заблудился художник.
Речь вот о чем: основные черты печального мировоззрения наличествовали уже в «Чуме», вдохновленной театральной утопией Антонена Арто и с нею же борющейся. «Чума» — пропедевтика к отъединенному скепсису 50-х, слово о том, что победа недостижима. Болезнь не погибла, даже не проиграла, она уходит сама, вероятно исполнив все то, что обещала своей беспощадности, и может вернуться и снова велеть армиям крыс околевать на знакомых улицах под негаснущим солнцем. Новый приход эпидемии всецело зависит от ее же хотения и каприза. Агентам сопротивления не позволено ее усмирить, они заложники чумной прихоти и спонтанно возникающего чумного порыва, заложники неопределенности, свидетели своей несвободы, которую не дано полюбить. Сизифу было легче, его любовь к камню и счастье, разлитое по всем участкам блистающей лунным светом дороги, возрастали прямо пропорционально увеличению баланса неудачи, чья тираническая бескомпромиссность с течением времени (время Сизифа — о, время Сизифа!) принимала все более мягкие и человекоразмерные контуры, а сам политкаторжанин удалялся в обратном, неантропоморфном направлении. И теперь, когда улажены все мелочи, ничто не мешает устроить короткую очную ставку двух эпидемий.
Как завещал Арто, чума, разразившаяся в типичной французской префектуре на алжирском берегу, в услугах бацилл не нуждается. Про бациллы в тексте Камю сказано достаточно, и все затем, чтобы высмеять ничтожество современных концепций, принуждающих непогрешимо отвлеченное бедствие орудовать из материального базиса, как пифия из треножника. Вакцина бьет мимо мишени, вместо которой дырка, зеро, предрассудок. О других мерах защиты тем более не нужно тревожиться, болезнь великодушно обо всем позаботится и, истребив требуемое количество населения, неизвестно зачем пощадив остальных, уйдет восвояси, отползет с поживой набега.
Духовная эпидемия, тоже по заветам Арто, создана усилиями людей и ландшафта; источник ее — в наконец разрядившемся психическом напряжении, чья причина затяжная тоска: это унылое буйство долго клокотало внутри, до поры его как бы не было. Выбитый солнцем город Оран не предусмотрен для жизни, в этом качестве его не задумали. Он уродлив, развернут спиной к бухте, так что моря ниоткуда не видно, в нем нет деревьев, садов, голубей, ничего, кроме жары и осенних потоков грязи. В городе напропалую работают, дабы разбогатеть, а богатство в Оране счастья еще никому не давало, счастья тут нет, за деньги не купишь. Дряхлый, старческий город, с запором и недержанием; потянулся к тарелке и обронил в ночной горшок челюсть, захотел почесаться в паху, но рука не нашла того, что искала. Оран и для смерти не предназначен, отходить в нем некомфортабельно: представьте, каково одинокому больному на одре, за сотнями потрескивающих от зноя стен, и целый город говорит о сделках, об учете векселей. Но безотрадно не только лежащему на смертном одре. Весь Оран разделяет чувства страдальца, ведь ему несподручно ни выжить, ни как следует умереть.
А если нет ни того ни другого, если нет бытия, в кладовых подсознания, тайно для светлого поля рассудка вызревает неподконтрольное желание взбунтоваться, уничтожить себя вместе с грязью и зноем, чтоб ничего не осталось от ужаса или чтоб стал он вовсе несносным. Будут зачумленные, покинутые птицами Афины, китайские города, забитые безгласными умирающими, марсельская гекатомба, когда каторжники сбрасывали в ров сочащиеся кровью трупы, константинопольский лазарет, где больных тащили крючьями по полу, соитие живых на погостах Милана, денно и нощно орущий Лондон с его скрипучими повозками для мертвецов — будет все, но не сиденье в конторах, не коммерческие переговоры в кафе, не постылые совокупленья в субботу. Так, не сознавая собственных мыслей и границ своей дерзости, неведомо для себя думали те, кому удалось, словно того не хотя, спровоцировать бунт и получить естественный его результат — чуму. Вот в чем размолвка Антонена Арто и Альбера Камю.
У Арто чума витийствует о празднике, вакхическом пире с красивым дыханием, больше мятным, чем винным. Майский ливень, процеженный свет, бубонный восторг, это искусство, которое, возвратившись к магическим операциям своего перводействия, заставило говорить музейные маски, разбередило кровь, застывшую на ликах жертвенных изваяний. Камю, разграничив в «Бунтующем человеке» бунт и революцию, признал в первом экзистенциальную потребность, а вторую отверг как регламентированное насилие, наводящее мерзкий порядок в казарме. Дело, однако, в том, что они связаны стадиально: бунт порождает революцию и претерпевает от нее муки и гибель, потому что революция убивает не детей, а отцов. В истоках оранской эпидемии — попытка одоленья тоски, то есть бессознательная вариация бунта, но чума таким восстанием не является. Чума не бунтарское возмущение, но его законное следствие, итог; это не иносказательное, это субстанциальное развитие революции, свирепости ее больничного режима, закабаления. В ней нет и намека на фиесту Арто, нет праздника, театра, гордостояния на юру — возвратный, точно приступ после ремиссии, натиск будней, изгаженных карантином, людскими и крысиными трупами. Зной, вонь, абстрактная прогрессия смерти и Сизифово сопротивление одиночек. В другое искусство он уже не верил, в иное восстание — тоже. Его повзрослевшая философия, его неаллегорический ответ на манифесты Арто. Не знаю, кто из них прав.
Я пишу эти строки по мере их написания, жарко, пробило три, значит, близится полночь. Средиземное море не пахнет йодом, рана уже затянулась. Не решил, что выбрать из длинного списка — чуму (непонятно, какую из двух), революцию, бунт, летний зной, осеннюю грязь, скрипучие лондонские телеги, китайские города, забитые безгласными умирающими, старика-астматика из подвала, еще одного старика, что в клочки рвал бумагу, стряхивал вниз и, когда набегали кошки, метко плевал на них, кровь или гной, пах, подмышки или бубоны, Антонена Арто или Альбера Камю. Каждый из этих предметов достоин любви, в каждом есть своя смерть, но завершение требует выбора, эпидемия бывает одна. Вот уже пробило восемь, значит, и полночь прошла. Сам я с этим не справлюсь. Хорошо бы, пришли ученые, принесли с собой метод. И они выходят из филантропического отделения тель-авивской философии для увечных, из водопроводного семинара иерусалимских филологов. Вижу их одухотворенные лица, полезные руки и ноги, общий благоприятный состав организма. Идут, несут метод. Надеюсь, они не дойдут, надеюсь, чума уничтожит их по дороге. Как уничтожит она грязь и жару, марсельскую шушеру, яффских нищих, двух стариков, кошек и крыс, Камю и Арто, меня — за то, что написал эти вялые строки и не смог им придать необходимой энергии. А когда все мы сгинем, обе чумы, истребив друг друга, возможно, освободят место для эпидемии творчества, наполненного исцеляющим или — что будет верней — испепеляющим светом.
Уличное. Странные свидания
Несколько человек в звериных шкурах танцевали у столов пивной в излучине улицы Алленби. Реликт языческих игрищ во славу балканского покровителя, землевладыки с копытом, свистулькой и заплечным мешком для сбора лекарственных трав. Под рукоплеск поклонников выписывали кренделя обутые в постолы плясуны. Маски тоже надели, чуткие морды животных, и древней памятью унюхали дым когда-то полнокровных капищ. Добротная гульба, а первый по значению пункт отдыха румынских работяг, как поведал злачный, с земской бороденкой репортер, кормившийся тем, что сбывал желтым листьям газет раскидистые фикции о гнездах порока на взморье, расположился в этой же улице, кварталом ниже, туда я и отправился перед закатом, в час субботы. Алленби смотрелась пустынно, так бывает перед явлением или исходом Царицы, но я не успел опечалиться малолюдьем — англичанин, встреченный у лавки с еврейской словесностью, возместил мне потерю толпы.