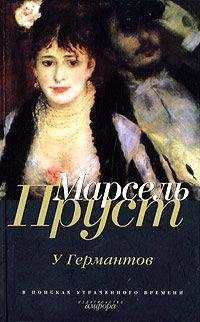Дженнифер Иган - Время смеется последним
— Да, конечно, — говорит она. — Но по-настоящему я тогда еще не понимала, что делаю. Зато сейчас, работая над своей новой ролью, я чувствую себя гораздо более…
— Стоп-стоп! — восклицаю я. — Отложим пока эту мысль! — хотя официант с высоко поднятым подносом в одной руке еще далеко от нашего столика и не факт, что он несет этот поднос нам. Но дело в том, что меня совершенно не интересует новая роль Китти Джексон, и вас, я уверен, тоже; конечно, мы никуда от этого не денемся, она все равно будет щебетать о том, какая это потрясающая роль, какие доверительные отношения сложились у нее с режиссером картины и какая это честь для нее — работать бок о бок с таким корифеем экрана, как Том Круз, — так что нам с вами придется проглотить эту горькую пилюлю ради удовольствия провести некоторое время в обществе звезды. Но все же хотелось бы проглотить ее как можно позже.
К счастью, это наш поднос (когда обедаешь со знаменитостью, еду приносят быстрее): салат «Кобб» для Китти; картофель фри, чизбургер и «Цезарь» для меня.
Еще немного теории, прежде чем мы приступим к обеду. На самом деле отношение официанта к Китти представляет собой этакий трехслойный сэндвич: снизу обычное слегка скучающее презрение, первооснова его общения с клиентами; в середке — истерика и смятение, спровоцированные явлением девятнадцатилетней дивы; наверху — стремление прикрыть и закамуфлировать этот чужеродный второй слой, напустив на себя хотя бы видимость привычного презрения и скуки, лежащих в основании сэндвича. У Китти Джексон тоже свой сэндвич: внизу как бы «она сама» — такая, какой ее знал пригород Де-Мойна, где она росла, каталась на велосипеде, бегала на школьные вечера, зарабатывала хорошие оценки и, самое интересное, занималась конным спортом, — эти занятия вылились в изрядную коллекцию ленточек и призов и вселили в юную Китти, хоть и ненадолго, мечту стать жокеем. Дальше идет начинка сэндвича — ее собственная, возможно несколько нервическая реакция на новообретенную славу; и, наконец, сверху — попытка имитировать нижний слой сэндвича, то есть притвориться собой, точнее бывшей собой.
Шестнадцать минут мимо.
— Ходят слухи, — начинаю я, хотя рот у меня набит недожеванным чизбургером, но в этом и есть мой расчет: я надеюсь внушить отвращение интервьюируемой и тем самым перфорировать предохранительный щит ее приятности и нанести коварный удар по ее самоконтролю, — что у вас интимные отношения с вашим звездным партнером.
Вот так. Обрушиваю это на нее без подготовки, поскольку не раз убеждался, что когда начинаешь подкатываться к человеку с подобными «личными» вопросами издалека, то трудный собеседник успевает ощетиниться, а приятный — залиться румянцем и мягко увернуться.
— Это ложь! — выкрикивает Китти. — Мы с Томом просто друзья. И с Николь тоже. Она для меня образец для подражания, во всем! Я иногда даже сижу с их детьми.
Я достаю свою самую гадкую ухмылку — без какой-либо определенной цели, единственно чтобы усугубить беспокойство интервьюируемой. Если мой метод кажется кому-то жестковатым, напомню, что мне было отведено сорок минут, почти двадцать из которых протикали впустую, а заодно уже признаюсь, что если у меня ни шиша не выйдет — то есть если мой репортаж не раскроет ни одну из неповторимых особенностей Китти, доселе неведомых широкой публике (а ровно это, как мне объяснили, произошло с моими предыдущими репортажами, в которых я охотился на лосей с Леонардо Ди Каприо, читал Гомера с Шэрон Стоун и собирал моллюсков с Джереми Айронсом), то его попросту выкинут в корзину, что окончательно обесценит жалкие остатки моих акций в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и завершит мой «список несчастий — черт, что ж они на тебя так валятся-то?» (Аттикус Леви, мой приятель и редактор, месяц назад, за обедом).
— Почему вы так улыбаетесь? — враждебно спрашивает Китти.
Как видите, приятность уже на исходе.
— Я улыбался?
Она переключается на салат «Кобб». Я тоже. Коль скоро доступ во внутренние святилища Китти Джексон для меня закрыт и заняться больше нечем, остается наблюдать за процессом поедания пищи, который сводится к следующему: в продолжение обеда она съедает все салатные листья, примерно два с половиной кусочка курятины и несколько помидорных долек. Не съедает: маслины, голубой сыр, вареные яйца, бекон и авокадо — иными словами, все то, что делает салат «Кобб» салатом «Кобб». Что касается салатной заправки, которую она попросила подать ей «отдельно, пожалуйста», то она притрагивается к ней один-единственный раз, обмакнув в нее кончик указательного пальца и облизнув.[5]
— Знаете, что я думаю, — произношу наконец я, разряжая вибрирующее над нашим столом напряжение. — Вот, думаю я, девятнадцать лет. За плечами мегакассовый фильм, от которого полмира уже писает кипятком, — ну и? Дальше-то что?
На лице Китти отображается облегчение, что я не выдал еще какую-нибудь гадость про Тома Круза, а также подмешанное к этому облегчению (или, возможно, вытекающее из него) мимолетное желание увидеть во мне не просто очередного придурка с диктофоном, но человека, способного постичь всю странность ее мира. Ах, если бы так оно и было! Я бы с дорогой душой постиг всю странность ее мира — зарылся бы в эту странность с головой и носа б не высовывал. Но на деле максимум, на что я способен, — это постараться скрыть от Китти Джексон, что никаких точек соприкосновения у нас с ней нет и быть не может, и то, что она не раскусила меня в течение вот уже двадцати одной минуты, — моя большая личная победа.
Вы спросите: зачем я без конца вписываю себя в этот репортаж? Затем, что я хочу вытрясти нечто удобочитаемое из девятнадцатилетней девочки, вся индивидуальность которой сводится к ее исключительной приятности; пытаюсь состряпать рассказ, который не только раскроет бархатные глубины ее юной души, но в котором будет какая-никакая интрига, динамика и — перекрестясь! — намек на некий смысл. Но тут возникает одна проблема: в Китти Джексон нет никакой интриги, в ней вообще нет ничего интересного — кроме воздействия, оказываемого ею на других. А поскольку единственным «другим», готовым предоставить свой внутренний мир со всеми потрохами на всеобщее обозрение, являюсь в данном случае я сам, то совершенно естественно и, строго говоря, неизбежно («Только умоляю, постарайся, чтобы меня потом не смешали с дерьмом за то, что я поручил тебе это интервью» — Аттикус Леви в ходе недавнего телефонного разговора, в котором я жаловался, что я иссяк, не могу больше писать про знаменитостей), что мой репортаж о так называемом обеде с Китти Джексон становится в конечном итоге репортажем о бессчетных воздействиях, которые Китти Джексон оказывала на меня в продолжение этого обеда. А чтобы эти воздействия не воспринимались как слишком уж необъяснимые, следует учесть тот факт, что Дженет Грин, с которой мы встречались три года и были официально обручены один месяц и тринадцать дней, ушла от меня две недели назад к мемуаристу, последняя книга которого воссоздает во всех подробностях его отроческую привычку дрочить в аквариум с рыбками («Он, по крайней мере, работает над собой!» — Дженет Грин по телефону, в ответ на мои попытки внушить ей, что она совершает колоссальную ошибку).
— Вот именно! — говорит Китти. — Я сама без конца об этом думаю — что дальше? Иногда даже пытаюсь представить, как спустя много лет я оглядываюсь, скажем, на сегодняшний день. Я спрашиваю себя: а откуда я оглядываюсь? И как этот сегодняшний день выглядит оттуда, откуда я оглядываюсь, — как начало новой прекрасной жизни… или?..
Хотелось бы узнать: что есть «прекрасная жизнь» в понимании Китти Джексон?
— Ну, вы же меня поняли! — Она розовеет, хихикает. Стало быть, мы вернулись к приятности, но уже иного рода. Примирение после размолвки.
— Богатство, слава? — подсказываю я.
— И это тоже. Но еще — просто счастье. Я хочу встретить настоящую любовь — это звучит банально, ну и пусть. Хочу, чтобы были дети. Знаете, в новой картине я так привязываюсь к своей суррогатной матери…
Но мои усилия, направленные на пресечение самопиара в начале нашего обеда, не прошли даром, павловский рефлекс срабатывает, Китти умолкает. Не успев поздравить себя с новой победой, я, однако, замечаю, как она искоса взглядывает на часы («Гермес»). Как я реагирую на ее взгляд?
Во мне плещется взрывоопасная смесь — гнев, страх, вожделение: гнев — потому что эта наивная девочка имеет, без всяких на то оснований, куда больше власти в этом мире, чем у меня было, есть и будет в течение всей жизни, и когда мои сорок минут дотикают, мои приземленные маршруты уже ни при каких обстоятельствах, кроме заведомо криминальных, не смогут пересечься с ее возвышенными путями; страх — потому что, косясь на собственные часы («Таймекс»), я вижу, что прошли уже тридцать минут из сорока, а мне по-прежнему не на чем строить жизнеописание звезды; и вожделение — потому что на ее замечательно длинной шее болтается тонюсенькая, почти прозрачная золотая цепочка. Открытые плечи (белое платье держится на одной лямочке через шею) — хрупкие, нежные и загорелые, как два цыпленка гриль. Звучит, пожалуй, не слишком соблазнительно, но на самом деле это соблазнительно, еще как!