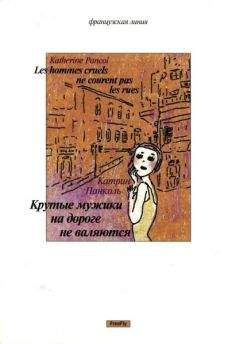Катрин Панколь - Звезда в оранжевом комбинезоне
– На день рождения. Увидел, что высоко стоит в списке продаж.
– А тебе не жалко дать ее мне?
– Жалко, – сказала Жюли, покраснев еще больше. – Но ведь ты будешь аккуратно с ней обращаться, ведь так? Не станешь загибать страницы?
Жорж и Сюзон смотрели телевизор, когда услышали, как скрипнули ворота и шины Стеллиного грузовика прошелестели по дороге. Сюзон сняла с вешалки шерстяную шаль, накинула на плечи и вышла.
Стелла выскочила из кабины грузовика и, широко шагая, заспешила ей навстречу.
– Прости. Я опоздала. Заехала к Жюли после больницы.
– Как себя чувствует мама?
– С удовольствием поглощает твой компот!
– Ага! Значит, ей получше…
– Да. За ней там хороший уход.
– Я уложила Тома, – сказала Сюзон.
– У вас?
– Нет, у тебя. Он падал от усталости. Я оставила собак в доме.
– Я НЕ ХОЧУ, чтобы он оставался один! – вскрикнула Стелла.
Сюзон чуть было не сказала, что он не один, но сдержалась.
– Я смотрела за ним, не беспокойся.
– Ты очень хорошо понимаешь, о чем я говорю! – не унималась Стелла. – Нельзя ни на минуту оставлять его без присмотра! Ну правда, Сюзон… Если я и на тебя не смогу больше рассчитывать…
– Да не волнуйся ты, малышка! Он здесь в безопасности.
– Он НИКОГДА не бывает в безопасности! Когда ты уже это поймешь? – завопила Стелла. – НИКОГДА! Черт, неужели это так трудно понять!
– Ты устала… Иди ложись. Я оставила тебе бульончик на столе.
– Нужен мне твой бульончик!
Сюзон запахнула шаль и растерянно поглядела на нее. В глазах ее стояли слезы. Стелла прошла мимо нее, ударом кулака вернув на место съехавшую шляпу, и поехала к дому.
Жорж вышел на крики и ждал Сюзон на пороге дома.
– Что случилось-то?
– Я сказала, что уложила Тома у нее, и она…
– Ну ты ничего другого ей не сказала, надеюсь?
– Нет.
Жорж с сомнением посмотрел на сестру.
– Я же тебе говорю, ничего я ей не сказала! – взорвалась Сюзон, расстроенная разговором со Стеллой.
– С вами, женщинами, никогда ничего не знаешь наперед.
– Оставь меня в покое! Сил моих больше нет, все до меня докапываются! Иди в дом и смотри своего Мегрэ!
– Я его уже наизусть знаю. И знаю, чем все кончится.
– Тогда зачем ты настаивал, чтобы мы его посмотрели? Из-за него мы пропустили «Лавку Луи-антиквара».
– Ну иди и смотри. На самый конец попадешь.
– Не хочу конец, хочу посмотреть всю историю.
Она вытерла слезы и пошла в дом.
– Нельзя так, это не жизнь, – сказала она, возвращаясь на порог дома. – Это не жизнь, когда все время чего-то боишься.
Жорж потер лицо, сел на каменную скамью и посмотрел на небо. Виноваты ли они, что все время только слушаются да подчиняются? Постоянно. Какие у них есть способы противостоять силе? Никаких, да и не было никогда. А сейчас они еще и старые стали. Два маленьких сморщенных старичка со слабыми руками, повисшими вдоль тела, как тряпочки.
Пришел мужчина и увел Тома.
Он не спрашивал, что они думают по этому поводу.
Сколько уже времени они живут среди страданий и драм семьи Буррашар? Сколько уже времени эта семейка отравляет им жизнь? Она их обглодала, как косточку, вот так! Из-за нее он не женился, Сюзон не вышла замуж. Они были слишком заняты, собирали по кусочкам несчастных обитателей замка. Буррашары разрушали все, к чему прикоснутся, и повсюду оставляли осколки. И смеялись над этим. Никто друг другу не помогал, никакой взаимной поддержки.
И тем не менее они неплохо устроились, у них был замок, деньги, связи, красивые машины, длинные аристократические пальцы, отглаженные складки на брюках. «Лучше бы я ногу сломал, когда меня черт понес к ним на службу. А я еще и сестрицу за собой потащил. Я думал, будет работенка не бей лежачего. Какое там! Старый Жюль, да упокоит Господь его душу, был неплохой дядька, но все, на что он был способен, это плести красивые фразы и возвеселяться. “Я возвеселился, Жорж, я возвеселился”. И хлопал меня по плечу, как собаку после удачной охоты».
Он был представителем той самой старинной знати, которая предпочла бы скорее умереть, чем измениться, скорее умереть, чем подстроиться под законы этого нового мира, которые были ей предложены. Он пользовался словами, почерпнутыми в старых словарях, жонглировал ими, смаковал, составлял из них замысловатые конструкции, но если призадуматься о том, что он излагал, в этой ахинее не было и тени мысли. Думать утомительно, а Жюль де Буррашар прежде всего желал жить без всякого напряжения.
Он рано вставал, делал короткую гимнастику из трех упражнений перед открытым окном спальни, брился, тщательно выбирал шейный платок и повязывал его, спускался в столовую выпить чая, выпивал первую чашку, съедал тост с маслом и черничным вареньем, яичницу с беконом. Потом натягивал охотничью куртку, высокие резиновые сапоги, брал ружье, надевал фетровую шляпу, объявлял в пространство, что идет на охоту.
Он шел до курятника, где несколько раз стрелял в воздух, чтобы распугать птицу, разражался хохотом при виде летающих в воздухе соломы и перьев, проверял, есть ли снесенные яйца, собирал их и возвращался в замок, не забыв сделать по дороге заявление, что ненавидит сельскую местность. «Но и город я тоже ненавижу, дорогой мой Жорж, и где же тогда мне жить? А? Вы можете мне сказать? Вот вам как раз повезло. Вы из простых, таких людей куда ни помести, они везде будут счастливы. Отсутствие мыслей есть опиум народа. Как же я вам завидую… А огонь в очаге уже разожжен?»
Он садился в гостиной вместе со своими собаками, требовал новую чашку чая и погружался в чтение светской хроники в «Фигаро», которую он комментировал в ожидании обеда. Он произносил, выделяя голосом каждый слог: «Это го-ло-во‑кру-жи-тель-но! Это сме-хо-твор-но! Это шутовство, фиглярство, нелепица, это уморительно, сногсшибательно, ошеломительно, презабавно!» А когда ему что-то явно не нравилось, он бранился: «Я возмущен, я ярюсь, я негодую, я гневаюсь».
Такой вот ежедневный ритуал. К полудню Сюзон освобождала поднос от чайных принадлежностей, подкидывала поленьев в огонь. Он откладывал свой журнал и интересовался последними деревенскими сплетнями. Кто с кем спит? Кто кого обрюхатил? А та маленькая прелестница Сильвиана, она пока еще не вышла замуж? Я бы перемолвился парой слов с этой мартышечкой! А Фернанда? Кто отец ребенка? Так до сих пор и неизвестно? Сезонный рабочий, понятное дело. Правильно она сделала, что его заловила, потому что не слишком-то много находилось охотников ее потискать. Должно быть, она залучила его к себе в тот вечер, когда парень как следует залил глаза.
Сюзон краснела и отмалчивалась.
– Вы-то не позволите обрюхатить себя подобным образом, да, моя миленькая Сюзон? Вы не похожи на девушку, которой хочется вскружить голову комплиментами. Лобик у вас узкий, волосы низко растут, потому вы похожи на плохо вылизанного теленка. Так что можете спать спокойно. Никто не покусится на вашу невинность…
Сюзон должна была бежать, чтобы приготовить ужин, но она осталась, вся начеку – хотела дослушать.
Он выдержал паузу, скрестил ноги, потом вновь вытянул их, потрепал одну из собак по загривку и вновь принялся за свое:
– Я даже не могу себе представить, с какой стороны к вам можно было бы подступиться, если бы мне вдруг пришла в голову такая фантазия… Я вижу только вашу спину, склоненную над работой, и ваши руки, которые подают на стол. Вы для меня бревно с двумя ловкими руками. Это ли не сме-хо-твор-но? Я разговариваю с бревном! С бревном, имеющим право голоса к тому же. Причем ваш голос на выборах стоит моего, это ли не не-су-ра-зи-ца? В этом мире не осталось приличий, обычаев. Не осталось иерархии. Французы превыше всего желают равенства. «Все люди рождаются равными. Но на следующий день они уже не равны». Это не я придумал, это некто Жюль Ренар. Но я вполне мог бы это сказать, если бы родился раньше, чем он. Вот еще один из тех, кто меня обставил. Посмотрите на меня. Я, Жюль де Буррашар, был создан для того, чтобы стать творцом. Я сочинял прежде небольшие пьесы, но их так нигде и не опубликовали. Нет, было один раз… В маленьком местном журнальчике, и я получил поощрение! Но я так и не стал продолжать, мне не захотелось больше унижаться перед жюри, которое легко подкупить пачкой купюр или намеком на аванс от круглозадой девчушки. Потому что я знаю, как проходят эти церемонии! К дьяволу талант, и да здравствует сговор! Я самоустранился. Удалился с достоинством. Стал культивировать искусство ничегонеделания, культивировать поражение. Упустить все на свете – искусство не хуже других. Я отдался ему целиком и наслаждаюсь моим поражением. Не правда ли, это вели-ко-леп-но?
– Ох, месье, не говорите так, вы себе хуже делаете!