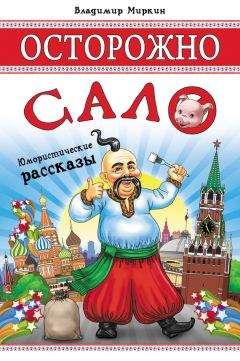Катрин Панколь - Крутые мужики на дороге не валяются
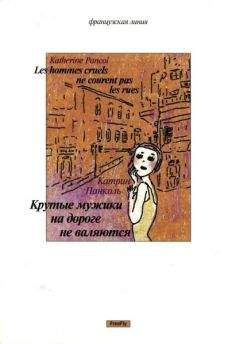
Обзор книги Катрин Панколь - Крутые мужики на дороге не валяются
Катрин Панколь
Крутые мужики на дороге не валяются
Малышке Пико
~~~
И мне вдруг страшно захотелось сорваться с места и улететь. Был вечер. Я сидела на своей широкой американской постели, тоскливо уставившись в зеркало, которое по замыслу должно было создавать в спальне атмосферу непринужденности и распутства. Замысел, увы, не сработал.
Я пригляделась к девушке в зеркале и поняла: что-то с ней не так. Она сидела и внимательно слушала, что происходит за окном: вот затормозил восьмидесятый автобус, с легким шипением раздвинулись автоматические дверцы, закрылись вновь, автобус поплыл дальше. Она готова была уцепиться за любую мелочь, казалось, ничто, кроме звуков на улице, ее не интересует. «Все, надоело, — сказала я ей. — Надоело упиваться собственным горем, выслушивать слова сострадания, ловить сочувственные взгляды. С меня хватит, я уезжаю».
Его больше нет.
Почему?
Он мне нужен, нужен больше, чем прежде.
Когда Он был жив…
Я всем отравляю жизнь своим страданием. Собака по имени Кид, тяжело дыша, трется о мои колени и смотрит на меня преданным, понимающим взглядом, затуманенным, правда, катарактой. Кид все время путается под ногами. Всюду ходит за мной, дежурит под дверью туалета. Вечером, когда я засыпаю, он прыгает на кровать, и от запаха тухлого мяса у меня тошнота подступает к горлу. Он пыхтит, потягивается, крутится на месте, будто приминая траву на лугу, и наконец со вздохом плюхается на белое покрывало. Спит он чутко: стоит мне всхлипнуть, и он мгновенно вскакивает, а затем начинает выть, да так жалобно, что я пристыженно замолкаю.
Братик Тото, слушая мои стенания, нервно теребил ухо, и в результате на левой мочке (он левша) образовалась бородавка. Сеанс прижигания у дерматолога стоит двести пятьдесят франков, и нет гарантии, что она не вырастет опять, потому что бородавки образуются не сами по себе, они рождаются в голове. Я снова буду рыдать в его присутствии, а он — теребить мочку уха.
От меня сплошной вред. Я всем кругом приношу несчастье.
И вот ведь что ужасно: чем больше я пытаюсь разделить с кем-то свое горе, тем менее оно осязаемо. И Он тоже: расплывается, уходит все дальше и дальше, будто я раздражаю его своей болтовней. Слова — фуфло. Я выбиваюсь из сил, выбираю подходящие выражения, пытаясь справиться с бедой, загнать ее в угол. Тщательно выстраиваю каждую фразу, взвешиваю каждое слово, стараюсь вытравить горе точностью формулировок, а выходит непотребная чушь.
Больше так жить нельзя.
Этим вечером нужное слово явилось само собой. «Нью-Йорк», — произношу я отчетливо, глядя на свое отражение, и мигом вскакиваю с постели. Вот чего мне недоставало. Острых ощущений. Наслаждения, отвращения. Наплыва эмоций. Пора вылезать из берлоги: спячка закончена.
Испытаю себя Нью-Йорком.
Дам себя доконать либо, напротив, воспряну и, стряхнув пыль с одежд, бодро пойду дальше. В ярости поднимусь с колен или в нокауте рухну навзничь. Я полечу завтра. Или послезавтра. Расписание рейсов прочно засело в памяти. Мне не впервой скрываться в Нью-Йорке от себя самой.
В своих чувствах разберусь на месте. Проанализирую ситуацию, как говорит Тютелька, моя подруга. Она любую ситуацию а-на-ли-зи-рует самым тщательным образом. И часто оказывается недалека от истины. В минуты нежности я говорю ей, что, будь я мужчиной, непременно бы на ней женилась. Она никому не давала сбить себя с толку, раскладывала по полочкам разумные доводы и в свои сорок восемь лет осталась одна-одинешенька. Такова судьба тех, кто слишком много думает: неизбежно настает миг, когда повод для рефлексии отпадает сам собой и, обернувшись, великий мыслитель замечает, что никто уже не идет за ним следом.
— И ты рыдаешь, потому что когда-то он сказал: «Поклянись, что умрешь вместе со мной»?
— …
— Ведь это чудовищно! Это просто невероятно!
— Нет! Ты не понимаешь! Он любил меня!
— Да ты подумай хорошенько! Как может отец сказать такое дочери? Если бы он тебя действительно любил, то никогда бы этого не сказал!
Резким движением она поправляет очки в коричневой оправе, вскакивает на ноги (на ней кроссовки от «Монопри»[1] 36-го размера) и, размахивая руками, принимается рассуждать: «Разве это любовь? Любовь — это совершенно другое чувство. Когда любят — отдают другому все без остатка, стараются сделать его счастливым. В этом дебильном мире люди совершенно разучились любить. Все жаждут об-ла-дать. Он хотел поглотить тебя, превратить в ничто, чтобы ты не досталась никому другому. И похоже, ему это удалось. Браво, папочка!»
В эту минуту я ее ненавижу. Всем своим существом. Меня распирает от злобы, которая огненным драконом рвется наружу, обжигая кишки и пищевод. Красные и черные язычки пламени весело пляшут внутри. Еще минута, и кипящая смола негодования превратит мою подругу в кучку пепла. Но в решающий миг я замолкаю. Мне не хватает смелости спорить с Тютелькой.
Он любил меня. На самом деле любил. В этом я не сомневаюсь.
Он любил меня, и Его больше нет.
Мне пора в Нью-Йорк!
Я хочу вновь помериться силами с городом небоскребов, сумасшедших трудоголиков, ржавых такси, дырявого асфальта и вонючего метро. Я объясняю собаке по имени Кид, что придется пожить с Тютелькой и тремя её кошками. Кид слушает меня, печально склонив голову, и тяжело вздыхает. «Тебе понравится, — заискивающе обещаю я, — там сад и яблоневые деревья. Будешь катать яблоки по зеленой траве, каждую субботу лакомиться рагу из белого мяса, а если тебе не хватит твоей порции, всегда можно стянуть у кошек, они тебе слова не скажут…» Кид тоскливо смотрит на мой чемодан и снова вздыхает. Он понимает, что спорить бесполезно, последнее слово все равно останется за мной.
Я лечу в Нью-Йорк.
В Нью-Йорке я всегда селюсь на Манхэттене, у Бонни Мэйлер. Я брожу по улицам и судорожно пытаюсь ухватиться за какую-нибудь деталь, чтобы снова почувствовать вкус к жизни: невольно улыбнуться, вскрикнуть от неожиданности или (начнем с малого) хотя бы просто взглянуть на мир широко раскрытыми глазами, отвлечься от самой себя. Я изо всех сил пытаюсь смотреть по сторонам, но ничего не вижу за пеленой слез.
Ну почему Он ушел?
Почему Он ушел именно теперь, когда мы наконец помирились?
Я иду по направлению к любимому бару. Он находится на минус втором этаже «Блумингдэйла», слева, сразу после отдела трусиков. Называется Forty Carrots[2]. Просто так не найдешь — это место надо знать. С виду нечто вроде безалкогольного кафе. Обессилевшие от шопинга жительницы Нью-Йорка из последних сил доползают сюда и плюхаются на сиденья у барной стойки. На стенах — сплошные морковки и табличка: «No fat. No preservative. Cholesterol free»[3]. Посетительницы подсчитывают каждую калорию, внимательно изучают, что заказали соседки. Даже к чашке кофе относятся с подозрением.
За оранжевой пластмассовой стойкой мелькают мускулистые официантки в белых ботинках на платформе, механическими движениями швыряют клиенткам салатики и замороженные йогурты. Они напоминают многодетных матерей за семейным завтраком.
Прилетев в Нью-Йорк, я закидываю вещи к Бонни Мэйлер и первым делом отправляюсь сюда. Таков мой обычай. Официантки здесь никогда не меняются. У них все та же пружинящая походка и блузки в цветочек. Улыбаясь, они будто напоминают: «Пошустрее, вас здесь много, да не забудьте про чаевые». Больше всего мне в них нравится то, что они всех называют honey[4]. На душе сразу становится легко. После приветливого honey кажется, что я в этом городе своя.
Сегодня мне досталась любимая официантка — здоровенная негритянка лет пятидесяти с блестящей кожей и пронзительным взглядом. Шикарная женщина. На одном запястье поддельные часы «Картье», на другом — массивные золотые браслеты, на голове — подобие рождественской елки.
— Hi, Honey?[5]
Она держит наготове исчирканный блокнот, за ухом притаился карандаш. От ее жизнеутверждающей улыбки стаканы с соком вот-вот взлетят в воздух.
— What do you want, Honey?[6]
Мой заказ всегда один и тот же: замороженный банановый йогурт с медом, изюмом, грецким орехом, фундуком, миндалем и тертым яблоком. Я пытаюсь уловить в ее взгляде тень узнавания, но она механически записывает заказ и всё той же пружинящей походкой идет к миксерам, откуда, шипя, низвергается мощный поток йогурта, капает мед, катятся изюминки, сыплются орешки и наконец падает банан (на него нынче скидка). На все про все сорок пять секунд! Можно заказывать следующую порцию!
Но, едва замороженный йогурт шлепается на стойку, у меня пропадает желание его есть.
Ну почему Он ушел?
Почему Он ушел именно теперь, когда мы наконец помирились?
В отчаянии я поднимаю глаза на официантку, но она уже потеряла ко мне интерес, переключилась на следующую honey. Я беру счет, слезаю с табурета, оставляю чаевые, иду платить. Девица на кассе размышляет, что бы такое приготовить на День благодарения. Соседняя кассирша советует подать индейку с каштанами и брусничное варенье. Девица морщится. Она впервые празднует День благодарения с женихом и мечтает его поразить. Я молча жду, когда она пробьет мой чек. Не хочу лишний раз привлекать к себе внимание, боюсь, что она посмотрит наконец в мою сторону и поймет, что у меня не всё в порядке: нос покраснел, веки опухли, сумка небрежно болтается на плече. Я отвожу взгляд, достаю кошелек, быстро расплачиваюсь, не поднимая глаз. Я оберегаю свое горе от посторонних, хочу насладиться им в одиночестве, чтобы оно было живым и осязаемым. Я заметила, что стоит мне заговорить о Нем, и Он как будто исчезает, не желает участвовать в разговоре.