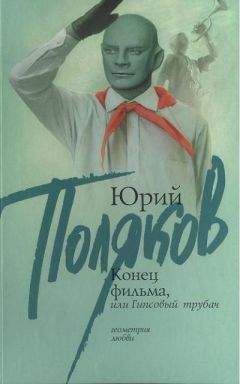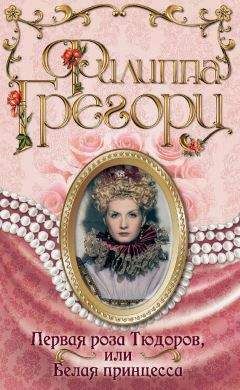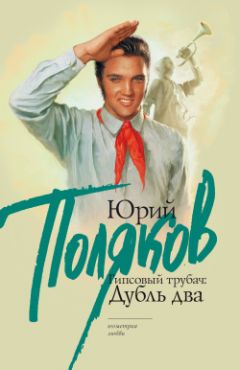Юрий Поляков - Гипсовый трубач
Но «Гипсовый трубач» и на этот раз не пошел. Не помню почему. Вообще, я давно заметил, отношения автора с начатым сочинением чем-то напоминают бурный роман. Еще вчера тебя нежно лихорадило от назначенной встречи, и ты чуть не плакал, если свиданье срывалось. Еще вчера ты ложился спать со сладостной мыслью о том, что пишешь главную книгу своей жизни, что утром снова сядешь за стол и повлечешь сюжет дальше — сквозь сказочный лес творческого воображения. Но ни с того ни с сего страсть к вожделенной особе превращается в навязчивую рутину, от которой надо как-то поскорей избавиться, а начатая повесть кажется бессмысленной, банальной затеей, не стоящей усидчивого усилия. И рукопись убирается в дальний ящик стола. Чтобы закончить вещь, с ней надо вступить не в романтические, а, фигурально выражаясь, в брачные отношения, когда каждый день ты вновь и вновь видишь рядом с собой одну и ту же, давно не воспламеняющую тебя подругу, да еще без макияжа… А куда деваться — жена! Только так пишутся большие книги…
6Итак, не вступив с «Гипсовым трубачом» в «брачные отношения», я увлекся другими сюжетами. Сочинил «Козленка в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег…» Одновременно, в конце 1990-х, у меня возник новый небывалый замысел. Когда я работал в Матвеевском с Габриловичем и Эйдлиным, меня поразила одна вещь. Я раньше думал, что сценарии пишут как прозу, просто режиссер с автором садятся рядком и отстукивают на машинке: «Вечер. Квартира. Неубранная постель. Входит Михаил.
МИХАИЛ. Маша, ты дома?
МАША. Да, я дома…»
Оказалось, что сценарий — как бы это точнее выразиться? — набалтывают. Да-да, набалтывают, наговаривают, наборматывают… Первый этап работы — это бесконечные разговоры обо всем на свете, не имеющие никакого отношения к сценарию. Это сооружение словесных химер, конструирование завиральных космогоний и разгадывание смыслов бытия. Рассказы и байки, правдивые и выдуманные, поведанные в приливе нетрезвой откровенности тайны личной жизни, истории трагических любовей или легких побед над знаменитыми актрисами, перепившими на банкете до буйной интимной неразборчивости. Это игра в слова, в каламбуры, политические дебаты такой ярости, когда хочется забить супостата-соавтора комнатными тапочками. Это страстные споры о превратностях русской истории и русской судьбы, о еврейской загадке, которую тщетно пытаются разрешить — каждый со своего конца — юдофилы и антисемиты. Анекдоты, дурацкие розыгрыши, приколы — и сущностные метания мысли, застольная метафизика, разговоры о странностях любви. Не понимаю, как из этой говорильни, разнотемья, напоминающего ирландское рагу, сначала зыбко вырисовывается, а потом обретает вполне зримые формы сценарий, ради которого, собственно, и сошлись заинтересованные стороны. Но он вырисовывается… И тогда мэтр, вздохнув, говорит: «Ну, теперь надо записывать…»
Именно так с покойным Петей Карякиным мы сочиняли киноверсию «ЧП районного масштаба». То же самое повторилось с Владимиром Меньшовым: с ним мы придумывали семейную драму под условным названием «Зависть богов». К одноименному фильму, впоследствии им снятому, та наша история не имеет никакого отношения за исключением, пожалуй, названия, полюбившегося режиссеру-оскароносцу. Нечто подобное было, когда со Станиславом Говорухиным мы трудились над «Ворошиловским стрелком». И всякий раз повторялось одно и то же: изысканное буйство человеческого общения. Когда же текст наконец ложился на бумагу, головокружительное марево словопрений рассеивалось, как табачный дым в комнате уснувших картежников, и мне становилось до слез обидно, что никто никогда не узнает, из какой восхитительной пены умнейших мыслей, тонких наблюдений, удивительных историй, острых шуток, рискованных каламбуров, отчаянных откровений рождаются скупые строчки сценария:
МИХАИЛ. А я думал, ты ушла.
МАША. Нет, я осталась…
И тогда я задумал повесть о том, как режиссер и литератор пишут сценарий, спорят, ссорятся, сочиняют и отметают один за другим варианты сюжета, как они выдумывают судьбы персонажей, распоряжаются их страстями, жизнями и смертями… Мне хотелось погрузить читателя в удивительную атмосферу словесных миров, недолговечных, как бабочки-поденки. Захваченный этой идеей, я набросал страниц сорок: звонок режиссера, встреча героев, поездка в «Ипокренино», первые разговоры и рассказанные друг другу истории… Но на этом мой пылкий «роман» с замыслом окончился, я охладел, как Земфира, и решительно не знал, что дальше…
Странного режиссера в берете с петушиным пером поначалу звали Стратоновым, и у меня возникло ощущение, что впоследствии он может оказаться чертом. Кто ж мог предположить, что из него выйдет Жарынин — мой любимец, один из тех буйных талантливых неудачников, которые так часто встречаются среди русских людей, запропавших в искусстве, где хватка и сцепка значат больше, чем дар. А вот писатель сразу стал Кокотовым — эту редкую фамилию я позаимствовал у одной молодой сотрудницы «Литературной газеты», куда я как раз в 2001-м пришел главным редактором. В Андрее Львовиче много от меня самого, точнее, от той части моей натуры, которая, честно говоря, мне не очень-то нравится.
Но работа, как я уже сказал, застопорилась. Зато меня увлек другой сюжет, с которым я вступил в серьезные «супружеские» отношения. Я взялся за «Грибного царя». История современного Фомы Гордеева, русского предприимчивого человека, добивающегося капиталистического успеха ценой краха душевного, нравственного распада, казалась мне тогда архиважной. Кстати, мечта об огромном боровике, исполняющем желания, впервые мелькнула в голове бредущего по лесу Львова. «Вот бы найти грибного царя, — думал он, — и вернуться в юность, в тот единственный июль!» Так грибная тема перекочевала в новый роман, вышедший в 2004 году, переизданный большими тиражами, переведенный на разные языки, инсценированный, экранизированный. Критики мой роман почти не заметили, они вообще не любят самодостаточных писателей, предпочитая возить в колясках-рецензиях литературных инвалидов. Видимо, за этим жертвенным занятием они чувствуют себя нужнее и значительнее.
7Потом на несколько лет я ушел с головой в драматургию, и мне было не до прозы… Но вот однажды я спускался по эскалатору в метро, разглядывая встречных девушек, год от года все молодеющих, и ни с того ни с сего мне пришла в голову ошеломительная мысль: Кокотов и Жарынин едут в «Ипокренино» писать сценарий по повести «Гипсовый трубач». Так два замысла, живших во мне каждый сам по себе, вдруг слились, как говорится, в экстазе. И роман захватил меня, причем не романтическим порывом, а крепкими многолетними «брачными» узами, подчас невыносимыми: вряд ли найдется семьянин, ни разу не помышлявший о разводе. Дальше началось то, что я условно называю насыщением текста жизнью. Большинство писателей делают литературу из литературы. Это несложно и напоминает вариации на темы известных композиторов. Делать литературу из жизни гораздо сложнее. Но это отдельный и долгий разговор.