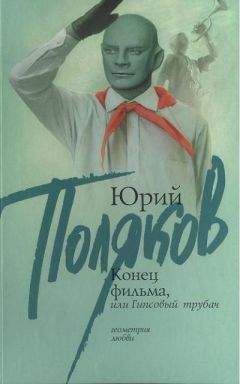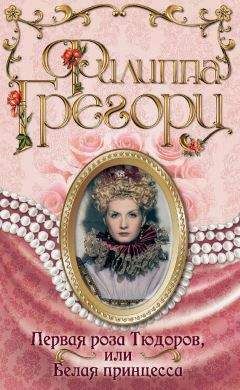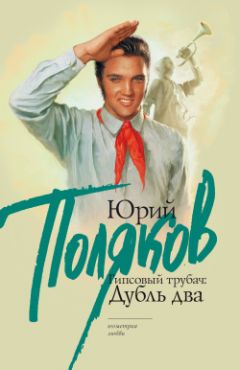Юрий Поляков - Гипсовый трубач
Однако окиньте мысленным взором фильмы, которые с конца 1980-х заполонили наши экраны, книги, которые бурно приветствовались критикой, и вы заметите: они сварганены примерно по той же схеме, что и моя ненаписанная повесть: все к худшему в этом худшем из миров. Но разве в таком мире я родился и вырос? Разве в том мире не было ничего хорошего? Разве максимальная концентрация смердящего зла на квадратном сантиметре текста — признак художественности? Разве литература существует лишь для того, чтобы пестовать и любовно гладить перепончатую нечисть?
А вокруг тем временем поносили и рушили ненавистный «совок»: кто-то мстил за дедушку, отсидевшего то ли за анекдот про Сталина, то ли за двойную бухгалтерию, кто-то ярился потому, что это стало выгодно, кто-то просто наслаждался шелестом свежих знамен. А мне вдруг захотелось написать об уходящей советской эпохе по совести, искренне, а значит, не злобно. Ведь ту жизнь, которой мы жили до 1991-го, можно назвать скудной (хотя с чем сравнивать — с войной?), нелепой (хотя с чем сравнивать — с пьяными ельцинскими загогулинами?), несправедливой (хотя с чем сравнивать — с «прихватизацией»?), но невыносимой назвать никак нельзя. Вероятно, невыносимой она была для отказников, сдавших партбилеты, уволившихся с престижной работы и сидевших на чемоданах, ожидая разрешения на выезд из «этой страны». Ненавистью отъезжающих и заболела почему-то почти вся постсоветская литература. Большинство, кстати, никуда не уехали, а многие из отбывших потом вернулись, но осадочек, как говорится, остался.
Нечто подобное уже бывало в нашей истории, в девятнадцатом и начале двадцатого века, когда интеллигенция смотрела на Отечество воспаленными глазами революционных эмигрантов. Чем все это закончилось — знаем. А теперь эстафету чемоданной неприязни к Родине приняли новые писатели, родившиеся, так сказать, «после научного коммунизма», не знавшие цензуры, идеологических накачек и стеснений в странствиях по миру. А поди ж ты! Мировоззренческие предубеждения обладают устойчивостью инфекции, передающейся мозговым путем. К тому же, влиятельные премии вроде «Большой книги», «Русского Букера», «Национального бестселлера» и др. много лет с прилежным упорством увенчивают именно тех авторов, которые страдают той или иной формой чемоданного антипатриотизма.
В результате я написал «Парижскую любовь Кости Гуманкова», которая вышла, как и прежние мои вещи, в «Юности» в трех летних номерах 1991-го. Страна рушилась, градус взаимной ненависти достиг точки кипения, по августовской Москве мыкались, лязгая, танки, словно участвуя в каком-то бестолковом параде поражения. А тут в боевом либеральном журнале появляется ироническая, но теплая вещица про любовь, да еще навеянная совершенно непростительной ностальгией по советской эпохе. Либеральная критика аж подпрыгнула от возмущения: мы, понимаешь, готовимся тут к последнему и решительному бою с «красным Египтом», а этот гад Поляков затомился по проклятому совку. Да и вообще, повестушка дрянная, вялая и никудышная. Где задор разоблачения, где азарт ниспровержения? Видимо, автор исписался. Почвенническая критика вообще не заметила «Парижскую любовь». Какие там охи-вздохи, какие заграничные каникулы любви, если инородцы жмут по всем фронтам, а настоящая фамилия Ельцина — Элькин! С тех пор я так и обитаю на простреливаемой полосе отчуждения между либералами и патриотами. Впрочем, я там такой не один…
Но должен сказать ради справедливости: либеральная критика оказалась понаблюдательней почвеннической: «Парижская любовь» в самом деле стала едва ли не первым сочинением, исполненным ностальгии по уходящей советской натуре. Удивительно, но это щемящее чувство утраты овладело мной тогда, когда исторический спор вроде бы не был окончен, ничего еще не было потеряно, а по утрам меня будил бодрый нерушимый гимн, несшийся из оплошно не выключенного радио. С чего бы это? Вероятно, литераторам дана особая, как выражаются сегодня, «фьючерсная» чувствительность. Остается добавить, что история бедолаги Кости Гуманкова с тех пор постоянно переиздается, выдержала почти тридцать изданий, а на встречах с читателями ее чаще всего называют самой любимой и перечитываемой. Вот такая творческая неудача…
5Очередная моя попытка написать «Гипсового трубача» связана как раз с нараставшим чувством утраты уходящего советского мира. Наверное, кто-то расставался с этим прошлым, смеясь, ерничая и глумясь. По моим наблюдениям, так себя вели как раз люди, взявшие от Советской власти больше, чем можно унести. Кажется, в 1993-м я дал интервью «Московской правде» о том, что пишу повесть «Гипсовый трубач». После ехидного политического памфлета «Демгородок», вышедшего в журнале «Смена» в те дни, когда дымился расстрелянный парламент, мне захотелось сочинить что-то нежное, зыбкое, печальное. Тут-то и всплыл в памяти старый пионерский замысел. Я сел и написал страниц двадцать на машинке. Потом, начиная с «Козленка в молоке», я уже работал только на компьютере. Кстати, не верьте, если вас станут убеждать, будто проза, написанная от руки, обладает некой особой ювелирной энергетикой. Чушь! И проза, и стихи, и публицистика пишутся умом и сердцем, а с помощью какого приспособления — стила, гусиного пера, «Ундервуда» или ноутбука — не имеет значения. Эпос о Гильгамеше, к примеру, выдавлен на глиняных табличках. И что же?
Новый «Гипсовый трубач» сильно отличался от прежнего, «перестроечного». Теперь постаревший и разочарованный в жизни Львов, таясь от жены, каждый год уезжает якобы по грибы туда, где был однажды счастлив, где случился его «солнечный удар», его безумная любовь к Лике. В ту пору вокруг Москвы заброшенных, разваливавшихся пионерских лагерей было великое множество. Шоковые реформы и жульническая приватизация обернулись крахом и закрытием многих предприятий, прежде всего оборонных, а именно они в первую голову строили и содержали загородные детские учреждения. Новые хозяева, получившие заводы почти даром, первым делом сбрасывали «социалку»… И редкий пионерский лагерь в те годы наполнялся детскими голосами, ветшая и разворовываясь…
Я написал, как Львов просыпается, едет за город, собирает грибы, а потом бредет на развалины утраченного счастья и грезит воспоминаниями, усевшись возле гипсового трубача — там он впервые поцеловал Лику. Оставалось сочинить историю их любви и объяснить причины непоправимой разлуки… Концовку, кстати, я придумал — как мне тогда казалось, роскошную, экзистенциальную! Нагоревавшись над своей единственной любовью, Львов с тяжелой корзиной шел к шоссе, садился в рейсовый автобус и отбывал на станцию. А через полчаса, другим автобусом на ту же остановку приезжала немолодая усталая женщина, когда-то, наверное, очень красивая. Она тоже шла через лес к развалинам пионерского лагеря, тоже долго сидела, грустя, у подножья выщербленного непогодой гипсового трубача, когда-то юного, звонкого, свежепобеленного. Да, это была Лика, которая тоже каждый год приезжает сюда, на развалины неслучившегося. Много лет подряд они оба там бывают и, к несчастью, ни разу не встречаются. А может, к счастью… Такая уж странная штука жизнь!