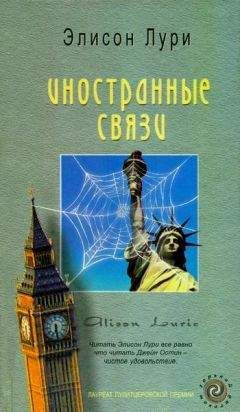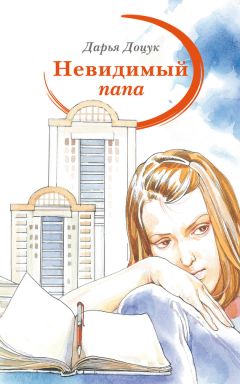Владимир Шаров - Старая девочка
Действительно, что на такой вопрос в такой обстановке ответишь. Но я от ее тона еще больше смутился, быстро стал с себя эти проклятые сапоги стаскивать, пружины скрипят еще больше сапог, а сапоги не стаскиваются. Всё же в конце концов я с ними и с остальным совладал. В постели же, знаете, ничего интересного, и тут я один виноват. У нее до меня ведь никого не было, а у меня какой-никакой опыт имелся. Но я Веру уже до такой степени боялся, что только об одном думал, как бы эту первую брачную ночь поскорее завершить.
Так что неудивительно, что и ей она ничего, кроме отвращения, не доставила. Едва всё кончилось, она мне каменным голосом говорит: „Уйдите“. Я этого, конечно, не ожидал, хотя финал достойный; вскочил, тут, кстати, обнаружил, что лежал с ней в постели в носках, схватил френч, галифе, ремень, вышеупомянутые сапоги и — пулей из спальни. Что осталось от ночи, провел в кабинете на диване».
То, что рассказал Корневский, полностью совпадало с записью в Верином дневнике: «Я зажгла свет, брезгливо, с недоумением осмотрела себя и поменяла простыни. Потом свет снова выключила и до утра лежала, не могла заснуть; то думала, какое это всё вранье, все эти восторги и упоения, расписанные в романах, то, как каждый из последних дней, — о Диме. На следующее утро я застала внизу одну маму, она сидела на диване с вязаньем и ждала моего пробуждения. Мама подняла глаза, не знаю, что она ожидала услышать, но, конечно, не то, что я сказала. „Я с ним жить не буду“. Мама вдруг испугалась, схватила меня за руку: „Как так? Почему? Что случилось? Что он тебе сделал?“ Я ее раньше такой никогда не видела. Я говорю: „Мама, ну чего ты разволновалась, ничего страшного не случилось. Всё то же, что у всех, ничего интересного. Просто я не хочу с ним жить и, извини, больше мне сказать тебе нечего“.
Я была уверена, что этого вполне достаточно, мама теперь уйдет, оставит меня одну. Но вместо этого она снова схватила мою руку и тем же трагическим голосом, что раньше, стала вопрошать: „Господь с тобой, а родные что скажут? А о нас ты подумала?“ И снова о родных, причем чуть не о каждом, подряд и пофамильно, и я тогда, как дурочка, отступила, осеклась и ушла к себе в спальню».
«В тот же день в МОВИУ, — продолжал тем временем Корневский, — мне весьма кстати выдали подъемные, и вечером, вернувшись домой, я в качестве свадебного подарка вручил Вере три червонца, их тогда только что выпустили. Она обрадовалась, поцеловала меня, вообще была мила и весела. А следующим вечером мне были продемонстрированы обновки, купленные на МОВИУшные червонцы: лакированные туфли-лодочки, две пары шелковых чулок и шляпка. Через полгода, когда уже стало ясно, что мы с Верой так и так разводимся, я, не удержавшись, как-то сказал ей, что видел ее счастливой один-единственный раз — в руках с этими червонцами».
Из дневников Веры Ерошкин знал, что через две недели после того, как они расписались, Корневского ненадолго отозвали в Орел сдать дела преемнику, а на следующий день в трамвае Вера случайно встретила Пирогова. Они разговорились, и он, узнав, что она теперь замужняя дама, муж же в отъезде, снова каждый день стал у нее бывать. Словно по соглашению, разговаривая, они старались не упоминать ни его жены, ни Корневского. Время от времени, если была хорошая погода, они вместе ездили гулять в Сокольники. Однажды, дело было там же, в Сокольниках, она ни с того ни с сего сказала ему: «Петр, возьми меня на руки».
В дневнике примерно за полгода до этого Вера как-то пожаловалась, что часто она для самой себя была чересчур неожиданна. В детстве она больше всего любила, когда ее носили на руках, и теперь в Сокольниках ей вдруг показалось, что, стоит лишь захотеть, всё это можно вернуть. Пирогов с готовностью ее подхватил, сделал это легко, и ей тогда снова почудилось, что вернуться в детство можно так же легко. Она, как девочка, обвила руками его шею, положила голову на плечо и опять начала плакаться, что с Корневским несчастна, что замужем ей плохо.
Так они шли и шли, и она, увлекшись своими жалобами, даже не заметила, что Петр давно свернул с главной аллеи на какую-то узенькую тропинку и больше не слушает ее стенаний. Теперь он шел медленно, осторожно и то и дело озирался по сторонам, явно чего-то ища. Забеспокоившись, она уже изготовилась спросить, куда они идут, но не успела: тем же елейным голосом, каким чужие люди говорят с маленьким ребенком, он вдруг произнес: «А что это там за домик?» Она посмотрела туда, куда и он, и увидела небольшой сарайчик для садового инвентаря с удачно приоткрытой дверью — только тут она поняла, чего он от нее хочет.
Вся эта история перестала ей нравиться. Возвращение в детство не состоялось, она отпустила его шею и потребовала, чтобы он немедленно поставил ее на землю. Против ожидания, он без ропота подчинился, и Вере, едва она почувствовала под собой твердую почву, снова стало его жаль. «Слушай, Петр, — сказала она, смягчившись, — я вижу, что ты меня и вправду любишь, но чтобы мы оба потом никогда об этом не пожалели, прошу тебя: не здесь и не сейчас. Я бы очень хотела, чтобы наружу это не вышло. Сделаем так. Завтра ты придешь, как обычно, я же скажу бабушке, что не хочу тебя видеть и чтобы она сказала, что я на курсах. Через полчаса жди меня на трамвайной остановке у Яузского бульвара, я приду».
«Оба сыграли эту сцену хорошо. Бабушка выпроводила Пирогова, а через полчаса я ушла, сказав, что иду к Ламиным. Мы встретились с Петром и, сев на трамвай, доехали до Трубной. Там, рядом с площадью, в переулках множество заведений с номерами для клиентов. В одно из них мы и вошли, не вызвав у коридорного никакого интереса, чего я, признаться, боялась. Не требуя с нас никаких документов, он открыл небольшую комнату, в которой был стол, пара табуреток да у стены помещалась железная кровать, застеленная грубым солдатским одеялом. Вернувшись, он брякнул на стол куцую подушку, простыни и оставил нас вдвоем.
Дальше всё произошло весьма деловито, без излишних восторгов со стороны влюбленного. Похоже, он вообще был на них не способен. Управились мы быстро и задерживаться в номерах не стали. За всё время, что мы там были, Петр не сказал и двух слов, только, когда я уже одевалась, задал естественный после того, что между нами было, вопрос. Я ответила отрицательно, но он этим не огорчился. Выйдя на улицу, Пирогов подвел итог: „Однако дорого дерут, черти“, — и сокрушенно замолчал».
Готовясь ко второму допросу, Ерошкин собирался всё это рассказать Корневскому. Не зная про измену жены, он сейчас, через двадцать лет, мог принять неправильное решение, тоже вслед за другими поверить, что Вера пошла назад, чтобы вернуться именно к нему. Свойство человеческой памяти таково, что мы гораздо лучше помним хорошее, чем злое, да и в нем, во зле, скорее склонны обвинять себя.