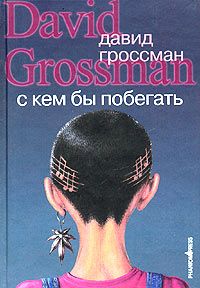Давид Гроссман - С кем бы побегать
Асаф скорчил гримасу из серии «Что я, по-твоему, младенец?», но, по правде говоря, он не очень возражал.
— Телефонная карточка у тебя есть?
— Родители оставили целых пять.
— При себе?
— Дома.
— Держи. И не экономь. Так, кто платит за обед?
— Как обычно, да?
Они расчистили место и водрузили на стол локти. Асаф был крепким парнем и ежедневно, в два захода, отжимался сто двадцать раз с упора и сто сорок раз от живота. Он несколько секунд скрипел и пыхтел, но против Носорога у него по-прежнему не было никаких шансов.
— Но становится все тяжелее, — благородно заявил Носорог и расплатился.
Они вышли из ресторана. Динка бежала между ними, и Асаф втайне наслаждался, представляя их троицу со стороны. На улице Носорог опустился на одно колено, прямо на грязный тротуар, чтобы заглянуть собаке в глаза. Динка лишь скользнула по нему взглядом и тут же отвернулась, давая понять, что для нее это перехлест. С эмоциями перехлест.
— Если не найдешь девчонку, приводи собаку ко мне. Она умница. У меня во дворе есть для нее приятели.
— А бланк… ну, этот… штраф…
— Не волнуйся. Ты что, хочешь, чтобы ветеринар из мэрии вколол ей что-нибудь?
Динка высунула язык и лизнула Носорога в лицо.
— Эй! — засмеялся он. — Мы ведь только-только познакомились. — Потом оседлал мотоцикл, сплющил шлемом лицо. — Куда ты сейчас?
— Куда она меня поведет…
Носорог снова рассмеялся.
— Ну что тебе сказать, Асафи. От тебя такое услышать… Эта собачка, уж точно, победила там, где твои родители и Релли не смогли. «Куда она меня поведет»… Конец света!
Мотоцикл взревел, сотрясая улицу, и рванул с места. Носорог махнул рукой и исчез.
Они остались одни. Вдвоем.
— Ну, что теперь, Динка?
Собака смотрела вслед Носорогу. Понюхала воздух, словно дожидаясь, когда рассеются выхлопные газы. Развернулась, замерла на напряженных лапах, подняла голову, вытянула шею. Даже уши у нее слегка повернулись в направлении чего-то, что находилось за домами, замыкавшими рыночную улицу. Асаф уже научился распознавать ее язык.
«Ваф», — сказала Динка и ринулась вперед.
На третий день, обессиленная с утра пораньше, едва переставляющая ноги после бессонной ночи, Тамар выбралась на улицу прежде, чем стали открываться конторы. Она купила себе и Динке завтрак в кафе «Дель Арте», и они съели его в пустынном дворе. Тамар беспокоилась за Динку: собака выглядела какой-то потасканной, шерсть ее потеряла блеск, прекрасные золотые волны на спине поблекли. «Бедная, втянула я тебя во все это, даже не спросив, а ты доверилась мне. Если бы я сама знала толком, что я делаю и куда иду…»
Но, оказавшись перед публикой, Тамар, как всегда, собралась.
Сегодня она пела на улице Лунц, и толпа не давала ей уйти, требуя еще и еще. Глаза ее сверкали. От выступления к выступлению в ней креп знакомый задор — захватить их, пленить с первой же ноты. Тамар даже не верилось, что ее дар остался при ней. Конечно, она тут же услышала возмущенные голоса Идана и Ади: музыка должна раскрываться постепенно, созревать, нет моментального, «растворимого» искусства! Тамар подумала, что они понятия не имеют, о чем говорят, потому что улица — это не золотые финтифлюшки и обитые бархатом стены, и никто здесь не станет ждать, пока она «созреет», улица полна соблазнов, манящих прохожих не меньше, чем певица-бродяжка, — через каждые двадцать метров кто-нибудь стоит со скрипкой, с флейтой или с летающими факелами, и все жаждут признания, внимания, любви, а еще — сотни лавочников, лоточников, продавцов фалафели и шаурмы, официантов, торговцев лотерейными билетами, нищих, и каждый беззвучно и отчаянно взывает: «Ко мне, иди ко мне, только ко мне!»
В хоре тоже, конечно, были интриги и зависть, соперничество за выигрышные партии, и каждый раз, когда руководительница давала кому-то соло, тут же кто-нибудь заявлял о своем уходе. Но сейчас все эти склоки казались Тамар детскими играми. Вчера, например, увидев, что вокруг двух ирландок с серебряными флейтами собралось больше народа, чем вокруг нее, она ощутила укол зависти куда более болезненный, чем в тот раз, когда Аталию из хора приняли в нью-йоркскую «Школу музыки на Манхэттене».
И сегодня, раскланиваясь под восторженными взглядами публики, слушая восхищенные аплодисменты, Тамар поняла, что хочет играть в эту игру именно по уличным правилам — бороться за своих слушателей, соблазнять их, быть резкой, агрессивной, напористой. Она осознала, что ее даже возбуждает ощущение улицы как арены нескончаемой войны на выживание. Эта битва разворачивается ежеминутно, маскируясь под радостное, многокрасочное и вполне цивильное действо. И еще Тамар поняла, что, если она хочет выжить, надо поскорее избавиться от своей деликатности и начать орудовать, как десантник, заброшенный в городские дебри. Поэтому она отошла на пять больших шагов в сторону от улицы Лунц и встала в самом центре мидрахов,[26] подмигнув мысленно Алине, вечно жаловавшейся, что нет в ней и капли амбициозности, так необходимой всякому артисту, что она изнежена и не желает бороться за свое место, избегает любых соревнований и конкурсов. Ну-ка, извольте взглянуть на меня сейчас, в самом центре вселенной. Вы можете поверить, что это я?
Тамар спела самым чистым и глубоким голосом, которого ей удалось достичь с тех пор, как она вышла на улицу, «God bless the child» Билли Холидей.[27] Но в тот момент, когда она собиралась запеть следующую песню, русский аккордеонист вдруг изо всех сил грянул «Нарру birthday to уоu», и к нему тут же присоединились ирландские флейтистки и слепой скрипач с угла улицы Лунц, наяривавший псевдоцыганщину, и, к изумлению Тамар, даже трое парагвайцев с непроницаемыми лицами пустили в ход свои экзотические инструменты. Все они окружили ее и играли специально для нее, а Тамар стояла, растерянная, ошеломленная, счастливо улыбаясь незнакомым людям, чьи лица внезапно осветились настоящей симпатией. Тамар даже не вспомнила свой предыдущий день рождения, который они с Иданом и Ади отметили на вершине башни на горе Скопус, куда прокрались в полночь и не смыкали глаз, пока не увидели восход…
И когда этот маленький концерт закончился, Тамар извинилась перед публикой, подошла к русскому старику и услышала от него то, что ожидала услышать. Что вчера приходила женщина, такая высокая, жутковатая, с кучей шрамов по всему лицу, и дала им по пятьдесят шекелей, чтобы они сегодня сыграли для нее эту песню. Каждому — по пятьдесят шекелей в руки, тут уж ни о чем не спрашивают.
Русский посмотрел на нее с тревогой:
— Что случилось, Тамарочка, я не очень хорошо сыграл?