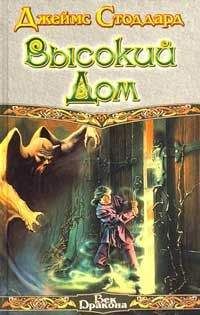Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»
Тут члены политбюро падали перед ним на колени, крестились обеими руками и плача ждали, что он им скажет. Он же каждому из вопрошавших в свой черед говорил: «Вот тебе от Бога указ», — или: «Божьим указом по сошедшему на меня Духу Святому». Дальнейшее теперь хорошо известно по многим опубликованным протоколам, например, наркомвоенмору Троцкому о том, будет ли в следующем, двадцать втором году нападение Антанты на Россию: «Я, возлюбленные, Саваоф, вам скажу, в сердца ваши благодать вложу, покровом вас покрою и от злых зверей Антантских закрою». Так и случилось: из-за массового рабочего движения планы Антанты свергнуть в России советскую власть тогда провалились.
Министру обороны Тимошенко в тридцать шестом году о возможности нападения немцев на СССР: «Я, Святой дух, вас защищу и сюда в Москву никаких немцев не пущу». Министру заготовок Рощину, спрашивавшему о том, хватит ли зерна в стране до нового урожая (май двадцать восьмого года): «Я сошлю вам с седма неба манну, что не узнает о ней и никакая Анна». Главе ЧК Ягоде (в тридцать третьем году), узнавшему, что ряд влиятельных членов политбюро настаивают на отрешении его от должности и аресте: «Если на тебя наденут путы, я велю их долой столкнута», и так далее. После окончания пророчеств снова следовала общая молитва, а за ней, уже на рассвете начиналось обильное пиршество.
Вслед за одним из таких радений приехал в Кимры Менжинский. Он тогда прибыл в город в совершенно невменяемом состоянии без обязательной ему по должности охраны, и Лептагов (видевший его до этого лишь раз в свите его предшественника Дзержинского) Менжинского не узнал. Это, конечно, ничего не меняло; любому человеку, который впервые прибегал к его хору, чтобы покаяться Господу и молить Его о спасении, Лептагов давал слово вне всякой очереди. Он знал, как тяжело людям, вдруг почувствовавшим, что в них столько зла и греха, что они больше не могут в нем жить. Человек, которому это открылось, дальше и мгновения не мог оставаться без Господа.
Лептагов даже любил такие нарушения обычного порядка репетиций, в нем еще доставало азарта, куража, веры, что он просто по наитию сумеет изменить всю архитектуру общего покаяния или того лучше в уравновешенной и гармоничной постройке, которую возводил, сразу найти место и для этого человека, после стольких лет своеволия снова нашедшего дорогу к Богу. Он так и строил, оставляя конструкцию словно незавершенной, незаконченной, без последнего камня, потому что ни у кого не должна была возникнуть мысль, что для него места здесь нет. Он - лишний. Лептагов не хотел, боялся, что кто-то мог прийти к Господу, увидеть, как прекрасно то, что возведено во имя Божье, а потом уйти, чтобы своими грехами не портить это великолепие. Так что он ждал Менжинского, ждал, как и любого другого, поэтому же сразу поставил его, определил место, и едва Менжинский отдышался, дал ему петь.
Менжинский начал с того, что он все это знал, знал и раньше, для него ничего не было тайной, он сам вместе с Дзержинским это создавал, они так это и задумали, и рады были, гордились, что получилось точно, как хотели. Но раньше он был вторым, был подчиненным, и всегда, если что-то казалось ему не хорошо, он мог сказать себе, что, в сущности, он здесь ничего не решает.
Он пел, что ему часто говорили, что без него было бы хуже, куда хуже, ведь он не подонок, не садист, а у них многие были настоящие садисты, сами любили и пытать и расстреливать, но еще больше было идеалистов, мечтавших о единстве рядов. С ними ему было особенно трудно, ведь они были на редкость убедительны. Они говорили, что общество пока мало спаяно, тысячи бывших дворян и контрреволюционеров разгуливают на свободе и для молодой революции ничего опаснее этого нет. А сколько так называемых колеблющихся: они ведь тоже потенциальные враги, и их тоже глупо оставлять на воле. Необходимы специальные лагеря, научно организованные трудовые лагеря, где они могли бы пройти рабочую закалку, полюбить, научиться уважать физический труд и им, этим трудом, перевоспитаться.
Пожалуй, только он, Менжинский, им возражал, говорил, что если людей сделать чересчур одинаковыми, общество начнет загнивать, ведь недаром Господь создал мир таким разнообразным: всему есть свое место и каждый на своем месте хорош. Но все это было чересчур сложно, и они смеялись над ним, презрительно звали «интеллигентом» и спрашивали, где же может быть хорош контрреволюционер, и хохоча сами себе отвечали: на виселице. Даже Дзержинский, хоть и любил его как младшего брата и знал еще со времен ссылки под Томском, с каждым годом понимал его хуже и хуже, все чаще говорил, что чем больше террора, тем лучше.
И вот нежданно-негаданно, когда Дзержинский умер, обойдя остальных его замов, главой ВЧК сделали Менжинского, и он тогда сразу подумал: скоро, очень скоро о каждом чекисте и вправду будут говорить, что у него холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Но прошло несколько месяцев, и Менжинский понял, что зло, грех снова затопляют «органы», и он ничего поделать не может. Страна гибнет, разлагается, и стар, и млад стучит, доносит друг на друга. Слово сказать со знакомым, еще хуже — с незнакомым человеком боятся: вдруг тот сообщит куда следует. Мало того, что каждый за каждым следит, что они всегда готовы предать соседа, друга, брата, мать и отца, сына и дочь, они настолько обезумели, что видят в этом благо, гордятся, что они такие бдительные, преданные, еще и требуют за предательство награды.
«Мы построили страшный мир, — пел он, — страшный, злой мир, я пытался сказать это членам политбюро, пытался им это объяснить, но они не хотели меня слушать. Я упрашивал их, молил, плакал, и в конце концов одно-единственное дело они разрешили мне рассказать. Вот оно, — продолжал он очень высоким тенором. — Молодая хорошенькая девушка, комсомолка, учится она на втором курсе историко-филологического факультета университета, ей как раз исполнилось восемнадцать и на свой день рождения она созвала чуть ли не полкурса. Пятнадцать человек сидели, разговаривали, пили чай с пирогами. А в самом конце вечера один из ее друзей рассказал дурацкий, в сущности, совершенно безобидный анекдот: пришел больной к зубному врачу, тот ему запломбировал зуб и говорит: «Все в порядке, можете идти». Больной сидит, не уходит и рот не закрывает. Врач ему повторяет: «Идите, я пломбу поставил». Тот сидит, как сидел. Наконец врач не выдержал: «Я же вам сказал, закрывайте рот и идите, все в порядке!» А больной: «Извините, доктор, дайте еще хоть минуту, где же еще свободно рот открыть можно».
Гости посмеялись, в дверях это уже было, и ушли, а она, бедная девочка, едва они ушли, сразу же побежала к нам, чтобы донести на того, кто это рассказал и, естественно, на тех, кто это тоже слышал, но сам не донес. И правильно побежала, потому что утром еще три человека из тех пятнадцати, что у нее вчера были, к нам наведались, но поздно, дело заведено, их тут же и повязали. И вот теперь получается, — пел он, — что все они — и кто рассказывал, и кто слушал — не меньше десяти лет за контрреволюционную агитацию получить должны, а им восемнадцать, редко кому — двадцать. Приговор у меня на подписи; поставлю я визу — из них домой хорошо, если четверть вернется, а здоровым — точно никто. Рассказал я это в политбюро, — пел Менжинский, — а мне спокойно говорят: делай, что обычно, случай самый рядовой, чего ты из-за него шум поднимаешь? Конечно, ребятам не повезло, но мы о народе, о всем народе думать должны, нам его жалко. Я им снова: разве вы не понимаете, что погубите тех, кого мечтаете спасти; никогда не спасется народ, в котором каждый ждет, что вот сегодня друг ближайший его предаст. Не может страна держаться на страхе. Они в ответ: во-первых, может, и даже очень неплохо может, а во-вторых, что ты предлагаешь, что ты от нас хочешь конкретно?
Тогда я еще к разговору готов не был, а через неделю во время радения, когда пришла моя очередь, говорю пророку, что «органы» реформировать надо полностью, все старые кадры гнать в шею, от прежнего даже камня не оставить. Вот, смотрите, продолжаю, церковь: ведь там каждый кается, каждый сам на себя доносит и ни денег, ни постов, ни жилплощади за это не требует. Народ же ничего не боится, ведь он не на другого, лишь на себя одного стучит. Заметьте, говорю, и все честно, ничего не утаивает, потому что знает: хоть что-то скроет — не видать ему Царствия небесного, и вот он рассказывает о себе все-все. И не только рассказывает, но и прощения просит и в грехах своих раскаивается, из храма он выходит просветленный, веруя; его и сажать не нужно, разве что он рецидивист какой-нибудь.
Тут я прервался, чтобы перевести дух, а пророк мне в ответ: «Ты говоришь так, будто церковь совершенна, а это — скопище иудейское, вавилонская блудница». Я замолчал, онемел, понимаю, что все пропало. Другие тоже молчат. Ждут. Несколько минут прошло, а может, и больше, вдруг он мне говорит: «Божьим указом — продолжай!»