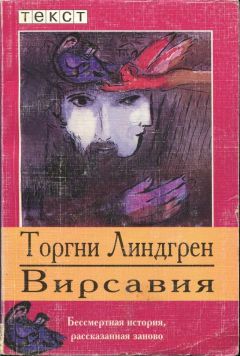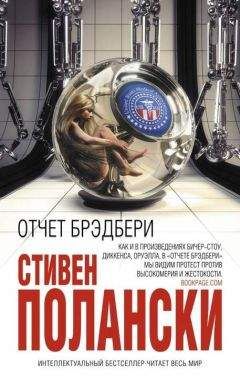Торгни Линдгрен - Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда
После этого девчушка убежала.
А мы вспомнили про других кроликов, которые сидели в клетке, где-то в подвале. Я сказал портье, чтобы их отдали на кухню.
Когда к стеклянному подъезду подкатила машина, откуда ни возьмись, вынырнул фотограф. Фотографы способны появиться когда угодно и где угодно. Мы не успели спрятаться, он сфотографировал Паулу, в последний раз, вернее, не только Паулу, нас обоих. Сложенная «Мадонна» прислонена к моему колену, вокруг на полу вещи Паулы, вид у нас усталый и безучастный. Перед нами, на моей дорожной сумке, стоит черный ларец. А кролик в полной безопасности сидит в объятиях моего протеза.
Машина оказалась комфортабельная, мы почти сразу уснули и спали до самого Стокгольма. Один только раз проснулись, в Эдесхёге, сделали остановку и съели по пицце. Посреди пиццерии был устроен загон с овцами. И я отнес туда кролика. Так придумала Паула. Он до сих пор там, кормится ромашками да маками. Из Эдесхёга я позвонил в Стокгольм, в компанию «Паула мьюзик». Поговорил с секретаршей. Вряд ли она знала, кто я такой, но объяснять ничего не пришлось, она была уже в курсе. Не переставая плакала и причитала, да так жалостно, что пришлось сказать ей: мол, все это дело временное, преходящее, для Паулы это вовсе не конец, но ничто ведь не длится вечно. Нужно все отменить — и записи, и концерты, и интервью, и репетиции, и рекламную кампанию, и обеды, и гастроли. И совершенно без разницы — на время или навсегда. Рано или поздно все прекращается.
— Держите позиции, — сказал я.
— Да, — всхлипнула она, — будем держать позиции.
~~~
Мой рассказ близится к концу. У него действительно есть конец. После этого конца ничего больше случиться не может. Конец счастливый, никому пока не удавалось обеспечить рассказу более счастливый конец. И все-таки жаль заканчивать, ведь моя левая рука приобрела изрядную сноровку и пишет с большой легкостью.
Мы заперлись в Паулиной квартире. Телохранителя у нас теперь не было, телефон мы выключили из розетки, газеты, которые доставляла почта, выбрасывали, не читая, в мусоропровод, телевизор и радио нас вообще не интересовали. Мы играли в крестики-нолики. И в покер на очки. Слушали Малера, Брукнера, Брамса, Прокофьева. Иногда Паула садилась за рояль. Играла Сати, Дебюсси, Шумана. Еду нам приносили из пиццерии Нико, что на углу. Нико же покупал для нас пиво и воду. Я отдал ему попугая, которого Паула получила в подарок от дяди Эрланда, и он ужасно обрадовался. Попугаи живут очень долго, так что, наверно, птица до сих пор сидит у Нико в пиццерии и изображает Паулу. Самому старому на свете попугаю сто четыре года, живет он во Франции, в Либурне. Имя его владельца я забыл. Еще мы читали книги, которые я привез с собой. А Паула читала мне стихи; в свое время, по объявлению в «Свенска дагбладет», она купила две тысячи томов поэзии, наследство какого-то гимназического преподавателя из Сульны. Сплошь пейзажная лирика. Будь у меня с собой мандолина, я бы непременно попытался сыграть Пауле «О sole mio». Каждый день и я, и Паула полчаса прыгали на батуте у Паулы в спальне. Занимались на ее велотренажере. На руле там видеоэкран, который показывает дорогу и окружающий ландшафт. Насколько я помню, нехватки мы ни в чем не испытывали.
Три раза в неделю заезжал пластический хирург. Паула больше не навещала его в приемной, он сам приезжал к ней. В таких случаях я уходил в другую комнату, не мешал им. Некоторое время они сидели в гостиной, а потом закрывались у нее в спальне. Но стены в квартире тонкие, и если бы я не включал музыкальный центр, то слышал бы все, что они делали. Любил он весьма энергично и шумно, пожалуй, даже чуть отчаянно.
Приезжал он как по расписанию, в строго определенное время. От Паулы я узнал, в чем тут дело.
Хирург состоял прихожанином небольшой церкви в Эстермальме. И после богослужений мог провести часок с Паулой, не опасаясь, что его хватятся. Другим свободным временем он не располагал, иначе ему пришлось бы одновременно находиться в двух местах — в стокгольмской приемной и в загородной лесной клинике.
Однажды, когда Паула задержалась в ванной, я отвел его в сторонку и спросил, не удастся ли ему, несмотря ни на что, изыскать возможность приезжать почаще.
— Паулу мучает беспокойство, она места себе не находит. Словно тоскует о чем-то. Иной раз мечется по квартире, не знает, куда себя деть, стучит кулаком в двери, зовет людей, которых нет. Словно мало ей, что она избавилась от этой своей карьеры.
Но для него это было совершенно невыполнимо. Сраженный Паулой, он едва не разрушил всю свою жизнь. Однако же сумел привести все в порядок, найти нишу и для нее.
— Сейчас достигнуто некое равновесие, — сказал он. — Но стоит сдвинуть его хотя бы на полчаса — и мне конец.
Наш местный банк прислал письмо. Я должен вернуть кредит, потому что не выплатил вовремя ни проценты, ни взносы в счет его погашения. Про этот кредит я начисто забыл, а брал его тогда, чтобы застраховать «Мадонну». В ответ я написал, что отдаю банку свой дом. Пусть они продадут его и вырученными деньгами покроют мои долги, я-то назад не вернусь, так что дом со всем его содержимым переходит в собственность банка. Я очень старался, составляя это письмо, стремился соблюсти корректность и официальность. «Если после продажи дома и покрытия долга возникнут излишки, — писал я, — то мне хотелось бы, чтобы на эти деньги установили на кладбище надгробный памятник матери Паулы». Я указал регистрационный код участка, фамилию и номер, указал свой номер и имя матери Паулы, а Паула и пластический хирург заверили мою подпись и засвидетельствовали, что писал я все это в здравом уме и твердой памяти.
«Мадонну» я поставил у Паулы в гостиной. Мы к ней привыкли, она стала прямо-таки обыкновенным предметом тамошней обстановки.
Отписав свой дом банку, я не спал всю ночь. Терзался тревогой, однако ни о чем не жалел и не тосковал. Только чувствовал себя совершенно ничтожным и убогим, словно дом был моей принадлежностью, чертой характера или способностью, которая вдруг пропала. Мысленно я всегда представлял себя в доме.
Когда принесли утренние газеты, я встал, собрал их и отправил в мусоропровод. А потом сел на пол перед «Мадонной». И вновь случилось то, что неизменно случалось всякий раз, когда я по-настоящему, без спешки смотрел на нее: она почему-то блекла, тускнела, словно эмалево-ясная поверхность размягчалась, таяла и картина утрачивала свет. А малиновое пятнышко, Эспаньолкина деликатная подпись, росло, выступало вперед, так что вскоре я ничего другого уже не видел. Это отнюдь не означает, что она стала для меня подделкой, я хорошо понимал, что происходящее — плод моей фантазии. Но она изменилась, как бы сама сбросила маску, под которой пряталась до сих пор. Не стала подлиннее или поддельнее, нет-нет, сделалась чем-то третьим, абсолютно меня не трогающим, я видел лишь три более-менее случайно соединенные поверхности, покрытые красками и значками. И думал, что надо набраться терпения, мало-помалу я вновь пойму ее, она не потеряна навсегда, просто надо научиться видеть ее и таким вот образом.
Немного погодя пришла Паула, села на пол в метре-другом от меня и тоже стала смотреть на «Мадонну». На коленях у нее лежал маленький кассетник, и до меня едва внятно долетала музыка: она слушала себя, «Oh Motherʼs Milk and Tears, Liquors and Potions of My Life», записанную всего несколько недель назад. Я вытянул перед собой правую руку и упражнялся, делая протезом хватательные движения. Под музыку Паула шевелила губами, горло ее тоже двигалось, будто она пела в полную силу.
Я сидел, размышляя обо всем, что утратил. О доме, о мебели, о книгах по искусству, о багетной мастерской, о правой руке, о мандолине, о Паулиной матери, о картинах ручной работы, о деньгах в ларце, о дедушке, о первой «Мадонне», о виде из кухонного окна, о дедовых фортепиано, о всем моем существовании. Левой рукой я поглаживал лысину.
Сейчас мне известно и о чем думала Паула: о маме, о детстве, о дяде Эрланде, о своей блестящей карьере, о куклах-марионетках, о зрительской любви, об отце, о «Новостях недели», о телохранителе, о гримерном ящике, о музыке, о смысле бытия. Обо всем, что она потеряла.
Неожиданно она стала кричать на меня:
— У меня нет никакой жизни за порогом этой крошечной квартиры! Ты все у меня отнял!
Она не смотрела на меня, просто кричала изо всех сил, пронзительно, с издевкой, перечисляя все, что ушло навсегда, что я отнял у нее. Не кто-то, а именно я! Сущий кошмар. И я не мог не ответить. Тоже закричал, да как, думал, горло сорву. Конечно, я виноват, всю жизнь я только и знай твердил, что кругом виноват. Но она тоже виновата, из-за нее я потерял абсолютно все, если б не она, моя жизнь была бы до смешного проста, я бы занимался своим незатейливым ремеслом, писанными маслом картинами и мандолиной, теперь же моя жизнь стала непомерно велика для меня, и виной тому «Мадонна», но в первую очередь она, Паула, по-моему, лучше бы ей вообще не родиться или благополучно пасть жертвой какого-нибудь несчастья из тех, что тучами роились вокруг нее, чем бы она ни занималась. Дядя Эрланд вполне мог бы прихватить ее с собой, когда выпрыгивал из окна. Мы орали во всю глотку, чтобы перекричать друг друга и ничего не слышать. Она бы глаза мне выцарапала, но никакими силами не могла подвигнуть себя на это — настолько я ей противен. Долго ли так продолжалось, я не знаю, просто в конце концов мы, совершенно опустошенные и обессиленные, сдались и внезапно умолкли.