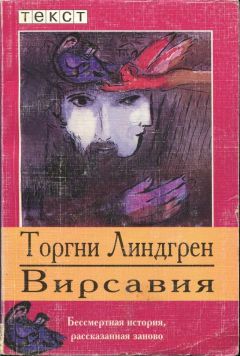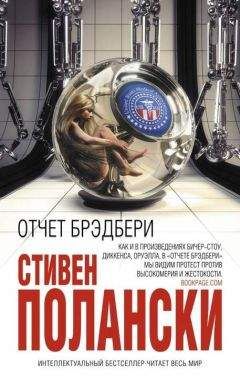Торгни Линдгрен - Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда
На следующий день она будет в Хальмстаде. Я распорядился, чтобы мою корреспонденцию пересылали на стокгольмский адрес Паулы, а с собой взял «Мадонну» и черный ларец, в котором вновь завелись кой-какие монеты и купюры. Да два тома Шопенгауэра.
Паула встретила меня на вокзале, остановилась она в «Тюлёхусе». Было около пяти.
Все знают, что произошло в Хальмстаде тем вечером.
Она рассмеялась, увидев мой багаж: я обвязал «Мадонну» пеньковой веревкой и нес ее в протезе. Ни испуга, ни даже волнения она, по-моему, не испытывала, сказала, что к вечеру, наверно, соберется дождь. Она любила дождь, публика под дождиком становится серьезнее и умнее. Но она схватила меня за левую руку, стиснула ее крепко-крепко и отпустила, только когда подъехала машина. За рулем сидел телохранитель.
О дяде Эрланде мы не сказали ни слова. Говорили о домах, какие видели в окно, и о садах, я ведь никогда раньше не бывал в Хальмстаде. Как ни странно, нам вообще не удавалось по-настоящему поговорить друг с другом о дяде Эрланде. Мы лишь упоминали о нем, волей-неволей, ведь то, что случилось с нами позднее, во многом шло от него. Однако нам обоим — и мне, и Пауле — сказать о нем было нечего, и насчет его похорон мы тоже не беспокоились. Кто-то и этим занимался, проследил, чтоб его предали земле, и газеты наверняка напечатали большие репортажи, но мы газет не читали. У нас хватало других дел. Да мы нипочем бы и не придумали похороны ему под стать.
Телохранитель доставил еду, и мы закусили у Паулы в номере пиццей и кебабом, используя вместо стола сложенную «Мадонну». Я сказал, что перевел свою корреспонденцию на ее адрес.
— И правильно сделал, — сказала Паула. — Нужно помогать друг другу. — А затем спросила, получаю ли я корреспонденцию.
Я призадумался и в итоге признал, что писем уже давненько не получал.
— Хотя раньше разные люди часто мне писали, — добавил я.
Что касается будущего, мы ни о чем больше не говорили, только об этой вот корреспонденции, которую я перевел на ее адрес и которой, скорее всего, не будет. Паула съела целых две пиццы, а я рассказал про техасского ресторатора, который за час умял двадцать пицц и выпил пять литров пива, его фотография была в «Книге рекордов Гиннесса». Мы посмеялись, обдавая друг друга чесночным духом. Паула показала мне связанную крючком ночную рубашку, подарок поклонника из Венерсборга, на груди была надпись «BLOOD AND FIRE», так называлась одна из песен Паулы, а рубашку он связал своими руками. Паула казалась совершенно счастливой. И я подумал: вообще-то она во мне не нуждается. Просто вообразила, что ей кто-то нужен. И выбрала меня.
Потом она сказала, что я должен отправиться с нею в Народный парк. Я было заикнулся, что вконец там растеряюсь, что не хочу угодить под ноги толпе, что, по-моему, происходящее в Народном парке должно остаться между нею и публикой, дело-то слишком деликатное, слишком личное, а я посторонний, мне лучше не вмешиваться. Однако Паула не слушала.
— Ты ничего не понимаешь, — сказала она. — В одиночку я не справлюсь.
Вот почему я все же там оказался. Но забыл спросить, с чем она не могла справиться в одиночку.
Я сидел у нее в гримерной, пока она накладывала макияж, делала гимнастику и распевалась. На сцене играла какая-то гётеборгская группа, разогревала публику перед выходом Паулы, мы слышали ударные да бас-гитару, и всё. Паулины музыканты пока стояли в коридоре, курили, разговаривали, смеялись. Никакой помощи Пауле не требовалось, она наверняка проделывала все это уже сотни раз и вроде как забыла о моем присутствии. Долетал в гримерку и шум, производимый публикой, но ненавязчиво, издалека. Раздеваясь и облачаясь в костюм для первого номера, Паула напевала «Овечки могут пастись спокойно».
Я смотрел на нее. Какое у нее красивое тело. Раньше я никогда об этом не задумывался.
Потом кто-то трижды громко стукнул в дверь, вероятно телохранитель, сигнал этот означал: пора на сцену — кролик привязан где надо, проектор включен, музыканты на месте, ее ждут. Гётеборгская группа умолкла, шум в публике стал чуть тише и глуше.
— Я постараюсь сделать вид, что вся публика — это ты. И больше никто. — С этими словами она выбежала из гримерки и так быстро захлопнула за собой дверь, что я и возразить не успел.
Я не хотел ничего слышать. Наклонился вперед и прижал к ушам ладони. Однако протез прилегал к уху неплотно, поэтому я все же услышал, что произошло.
Она проделала все па и пируэты, придуманные хореографом. Потом остановилась у рампы. Она будет спокойной, задумчивой, мягкой, исполняя «Love and Peace and Understanding and Forgiveness and Tenderness».
He знаю, сколько раз Паула открывала рот и вытягивала шею, чтобы запеть, знаю лишь, что она не издала ни звука. Публика, аккурат перекрывшая численностью головокружительный рекорд, замерла в безмолвии, не шевелилась, не кашляла, не прочищала горло, может статься, тихонько, осторожно постанывала, как бы пытаясь разделить Паулины усилия. Музыканты снова и снова повторяли первые аккорды, но из ее горла не доносилось даже писка или шепота. Она словно бы только дула на публику. Может, и в самом деле дула.
В конце концов Паула сдалась. Опустила голову, закрыла лицо руками, будто сгорая от стыда, и бросилась прочь со сцены, спотыкаясь о кабели и провода, два раза упала, до крови разбила коленки и выронила белую пластмассовую голубку, которую сжимала в руке.
Бежала она ко мне. Взобралась на колени, крепко обняла за шею, точь-в-точь как в ту пору, когда мы были маленькими, хотя я, конечно, почти достиг совершеннолетия. Так мы сидели некоторое время. А публика по-прежнему безмолвствовала.
Но постепенно начали раздаваться отдельные голоса. Резкие, сильные — казалось, кто-то надумал продемонстрировать, чего можно добиться по части звуков, приложив небольшие усилия. Кое-кто засвистел. Крики нарастали, множились. Музыканты пытались играть, однако на них не обращали внимания. В конце концов шум сделался настолько оглушительным, что, попробуй мы с Паулой что-нибудь сказать, мы бы не услышали друг друга. Хлынул дождь, но, увы, без толку. Музыканты перестали играть и укрылись в коридоре. А телохранитель открыл дверь и юркнул к нам в гримерку. Что-то крикнул, но я не разобрал что.
Наверно, хотел сказать, что дело табак, что сейчас нас всех тут поубивают.
Следом явились несколько полицейских. Заперли все двери, забаррикадировались вместе с нами.
— Теперь мы в безопасности, — прочел я по губам одного из них.
Сколько мы так просидели, я не знаю. Паула не шевелилась. По-моему, ее просто парализовало от изумления. Она и представить себе не могла, как горячо публика любит ее.
Публика между тем трудилась не покладая рук, методично выламывала доски из настила на сцене, а обломками крушила окна и молотила по стенам, пытаясь прорваться внутрь. Один из полицейских подошел ко мне и показал листок бумаги, на котором написал: «Сюда направлен Халландский полк». Была ли это правда, я не знаю.
К счастью, кто-то притащил канистру бензина, чтобы подпалить павильон. Это нас и спасло.
Приехали пожарные. Огонь успел разгореться не на шутку, один фронтон полыхал вовсю, пожарные задействовали все свои брандспойты. И небезуспешно — публика кинулась врассыпную, мы слышали, как затихает шум, словно гроза уходит прочь; через дырку в крыше, проделанную неистовой толпой, на нас лилась вода.
Одна из пожарных машин отвезла нас в гостиницу. Телохранителя била такая дрожь, что он едва мог идти, пожарным пришлось вести его под руки.
— Господи, помоги мне, — непрерывно твердил он. — Господи, помоги мне.
В гостинице мы раздели парня и уложили в постель — его номер был рядом с Паулиным, — а сами, переодевшись в сухое, устроились у Паулы в гостиной. Когда зазвонил телефон, я выдернул шнур из розетки. У Паулы нашлась бутылка «Абсолюта», наверно, она купила ее, чтобы доставить мне удовольствие, и мы пили водку из стаканов для зубных щеток. «Мадонну» и черный ларец я сразу по приезде сунул Пауле под кровать: пускай телохранитель заодно и их сторожит. Теперь я достал ларец, продемонстрировал ей деньги и сказал, что мне кажется, будто я начал все сначала, не со своего начала, а с прадедова. А Паула сказала, что денег вправду довольно много. По-настоящему она никогда не понимала, что такое деньги, и не умела отличать мелкие суммы от крупных.
Потом я спросил ее про голос.
— Ты просто потеряла голос? — сказал я. Вопрос был поставлен неправильно, она же как-никак со мной разговаривала. Но я хотел понять, что произошло. Вернее, делал вид, что должен понять.
Она не засмеялась и не разозлилась, только смотрела на меня, словно я сказал что-то очень важное, над чем нужно хорошенько поразмыслить. А немного погодя запела, прямо так, сидя в кресле, наклонясь вперед, облокотившись на колени, с легкой улыбкой на губах, будто мы по-прежнему толковали о деньгах в ларце или о вязаной крючком ночной рубашке. Пела она без малейшего напряжения, и все же голос ее наверняка разносился по всей гостинице, был слышен на берегу, летел над водой. Та самая баховская кантата. Между «Кто правдою живет» и «Вовек покоится блажен в руце Господней» она сделала маленькую паузу и отпила глоток водки. Когда песня кончилась, мы долго молчали. Я сказал, что не совладал с дифтонгами, я ведь не профессионал. А затем Паула попыталась объяснить, что с ней произошло на сцене в Народном парке.