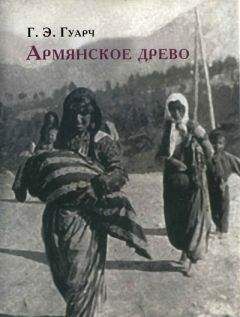Мигель Сихуко - Просвещенные
Криспин взглянул на стопку рукописи, растущую рядом с пишущей машинкой:
— Однажды отец устроил завтрак на воздухе, чтобы мы восхитились тигром. Этот момент я хорошо помню. Нам совсем не хотелось там есть, потому что из клетки пахло мочой и мускусом. Но выбора у нас не было. И вот мы сидим, гоняем еду по тарелке. Мама читает роман в бумажной обложке. Отец был в приподнятом настроении, он взял несколько кусков бекона и подошел к клетке. Он хотел покормить его с руки, как настоящий мачо. Но несчастный зверь испугался и забился в угол. Папа разозлился и стал на него кричать. Никогда не забуду, как он проорал: «И это называется король джунглей?!»
Криспин от души засмеялся. Потом вздохнул:
— Да, сейчас это смешно. Но тогда мы с братом и сестрой были ужасно напуганы всей этой сценой. А потом нам стало грустно. Знаете, как бывает. Отец бросил бекон тигру прямо в морду. Под тигром обозначилась лужица мочи, это было похоже на утечку какого-то ядовитого вещества. Картина стоит у меня перед глазами, как будто все это было вчера. Тигр описался от страха. Отец стоит над ним и орет. Мама читает. Мы, дети, отводим глаза и разглядываем мух, которые кружат над дольками манго на тонком фарфоре.
Криспин поставил на место пепельницу и трубку, передвинул декантер левее и приставил к нему бокал из того же сервиза. Он неотрывно, но без всякого интереса смотрел за движениями своих рук.
— Помню, как спустя много лет я рассказал эту историю своей девушке, Жижи. Странно, но я не вспоминал об этом лет двадцать. В итоге я расплакался. Первый раз за взрослую жизнь. Жижи сказала, что моей родине нужна революция. А что еще могла сказать француженка? Я и сам далеко не сразу понял, что революция в нашей стране — это не только отцеубийство. Это еще и богоубийство. Сейчас я думаю, что искупление в нашем случае должно идти через великодушие. Так или иначе, я всегда хотел использовать образ этого тигра для рассказа или сцены в романе. Но есть воспоминания, которые лучше не ворошить. — Он вытащил лист из пишущей машинки, положил к рукописи, закрыл ящик и поставил поверх двух других. — Я помню, как свеж был мой взор после тех слез.
Криспин посмотрел на меня — и этого взгляда я не забуду никогда. Как будто это был не я, а Святой Дух. Как будто он осознал неизбежность.
— До встречи, — сказал он и сдержанно улыбнулся. — Держи бодрей.
И я пошел домой, где меня ждала Мэдисон, орущая пожарная сигнализация в гостиной, открытые настежь окна и холод — такой же, как снаружи.
Это был мой последний разговор с Криспином.
5
Кристо едет верхом на новом пегом скакуне к перевалу, топот ведомого им отряда слышится как барабанный бой. Конь нервно ржет. Потеряв Голубку, Кристо поклялся, что отомстит американцам за гибель любимой лошади.
Там, вдалеке, за изгибом реки, бригада капитана Питера Мюррея, его заклятого врага. Костры привала мерцают, как далекие маяки, солдаты ходят между ними, ставят палатки, бегут за водой, готовят ужин. Сержант Лупас останавливает свою лошадь рядом с Кристо.
— Они ни о чем не догадываются, — говорит Кристо.
— Да, сэр. Но что будет с женщинами и детьми в деревне?
Кристо молчит.
— Людям неспокойно, капитан. Поговаривают, а не стоит ли нам сдаться.
Кристо вспыхивает, его голос понижается, становится резким:
— Они поговаривают? Или ты?
— Мне нет нужды доказывать вам свою преданность.
— Разве ты не понимаешь, Рикардо? Этого они и ждут. Америкосы решили, что смогут выставить кордон и запугать крестьян, чтоб они нас сдали.
— Наши запасы продовольствия истощились. Снабжение прервано. А с этим их кордоном… Кристо, крестьяне… женщины и дети голодают.
— Неужели мы сдадимся после трех лет войны? Неужели кто-то думает, что я не волнуюсь за свою жену и детей? Нет, Рикардо. Мы не станем играть врагу на руку. Только не сейчас. Помни, друг, когда мы победим, все эти заботы уйдут в прошлое.
— Они пришлют новые войска, капитан. А потом еще. Америка большая.
— Значит, по-вашему, сержант Лупас, мы уже проиграли, так?
— Нет, сэр.
— Как по-вашему, кто за кем охотится? Мы за ними или они за нами?
Лупас не говорит ни слова. Просто склоняет голову.
— Приготовьте людей к наступлению, — мягко говорит Кристо, — скажите им, что эта атака будет либо победной, либо последней.
Криспин Сальвадор, «Просвещенный» (с. 223) * * *Принимая на себя бремя отцовства, я руководствовался наилучшими намерениями. Полагаю, вначале я все делал правильно. Насколько это возможно в семнадцать лет.
Всякий юнец — герой и неудачник одновременно. С возрастом нам приходится выбирать себе место между этими крайностями. Я, наверное, уже выбрал. Но так было не всегда. Я помню, что облегчило мне первоначальный выбор. Анаис. Я встречал ее с занятий по живописи, ее живот явственно рос, ее одежда пахла льняным маслом. Я выслушивал ее грезы, как мы будем воспитывать нашего ребенка в Праге, Буэнос-Айресе, Антананариву. Как она восхищалась Ван Гогом, и э. э. каммингсом[108], и стихотворением про то, что любовь нежнее самых маленьких ручек. Вместе мы ходили на ультразвук и занятия по Ламазу. Вместе просматривали списки имен, пролистывая наше совместное будущее. Вместе занимались любовью, крепко держась за наши общие надежды, закрепленные плодом внутри ее. Ее служанка позвонила мне среди ночи и сказала, что у Анаис отошли воды и ее отправили в больницу. Роды были затяжные, я был рядом, она хватала губами ледяную крошку с моих рук, пока я тихонько говорил: «Дыши, дыши», и вот наконец Анаис повернулась ко мне и прошептала: «Люблю тебя». Прям как в кино. Потом пришел врач и сказал, что ребенок в опасности. Потом было кесарево сечение, пока я расхаживал по приемной из угла в угол. Когда мне дали подержать дочь, я понял, что детство кончилось, и бешено обрадовался. Девочка стоила любых жертв. Потом пошли подгузники, срыгивания, первые шаги и первые слова. Когда я принес свою крошку показать бабушке и дедушке, они ласкали ее и сюсюкали, а потом еще сфотографировались каждый с нею на руках. Позднее, уже наедине, обливаясь слезами, Буля говорила мне: «Вы как будто в дочки-матери играете». Потом была борьба за средний балл, позволявший не вылететь из университета. И, конечно, месяц, который я провел вдалеке от них, когда бабушка с дедулей отослали меня в Лондон, где Хесу оканчивал свой МВА, потому что ведь «большое видится на расстоянии». Анаис чувствовала себя покинутой, а может, она испугалась или просто была в такой же прострации, как и я. В общем, она сказала, что, если я не вернусь, она мне изменит. Тем же летом я вернулся, но было уже поздно: Анаис выполнила свою угрозу — она целовалась с другим. Так мне, во всяком случае, запомнилось. Давно это было.
Я пытался вернуть любовь Анаис ради нашей семьи, ради маленькой дочки. Но измена разделяла нас, как колючая проволока. Я бросил ее, а она бросила меня, и каждый ждал, что другой еще пожалеет об этом. Анаис, как и я, была ребенком с ребенком. Она попросила прощения, и я знал, что раскаяние было искренним. Но вот почему я не мог простить ее, я не знаю. Расхаживая по дому, я прикидывал, где он мог ее целовать, и потом старался обходить эти места стороной. От мысли, что он брал мою дочку на руки, внутри у меня все сжималось. Я все время представлял себе, как она смотрит на него, когда они стоят, обнявшись у дома, возле выращенных ее мамой орхидей, там, где мы с ней раньше обнимались и где изо всех сил старались обняться теперь. Какие планы они строили? Какими обещаниями успели обменяться? И что Анаис должна была сделать теперь, когда сделала все, что могла, — извинилась, расцеловала меня, постаралась ободрить? Признаваясь во всем этом, я не рассчитываю на прощение.
Однажды утром я симулировал сумасшествие. Возможно, сама симуляция говорила о том, что со мной и вправду не все в порядке. Я смотрел в пустоту и шептал Анаис:
— Меня преследует Жак Ширак[109]. Слышишь? Это он! Нам нужно спрятаться. — И полез под диван.
Анаис схватила меня за руку. Она поверила. Коктейль успеха, злобы и недоверия туманил мне голову. Поверила ли? Не говоря ни слова, она обняла меня.
— Бойся Жака Ширака! — воскликнул я.
Анаис обхватила мою голову, посмотрела мне прямо в глаза и спокойно сказала:
— Жак Ширак во Франции.
Потом она расплакалась. Я тоже рыдал. Обо всем сразу.
Периоды моего отсутствия становились все дольше, пока однажды я не исчез совсем.
* * *На второй военный Новый год дядя Джейсон поднял бокал сакэ и произнес тост за неувядающую любовь и заботу о своем брате, невестке и их детях. После чего исчез. «Только что был здесь, — вспоминал Криспин в „Автоплагиаторе“, — а когда мы переобнимались все с надеждой, в тот Новый год, граничившей с отчаянием, дядюшки Джейсона уже не было. Я был безутешен. Еще долго это оставалось для нас непостижимой загадкой. Только после войны мы наконец узнали, что с ним произошло. Его жизнь и истории, которые он мне потом рассказывал, во многом определили решения, которые я принял в молодости».