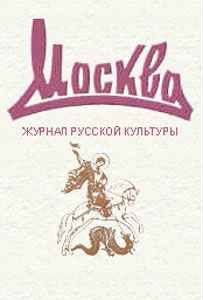Лоренс Даррел - Бунт Афродиты. Tunc
— Тебе противно? — спросила она.
Мне было противно, но я сказал, что нет, и наклонился поцеловать его. Больше того, я понял, почему она обернула его пластырем, скрывая от глаз суеверных окрестных жителей: по распространённому на Востоке поверью, двойной палец был отметиной ведьмы. В Средние века рудиментарный палец называли «соском чёрта». Она согнула и выпрямила ноги, потом отошла и с угрюмым видом села под деревом.
— О чём ты думаешь, Бенедикта?
Она тряхнула головой, как бы отбрасывая мрачные мысли, и, покусывая травинку, ответила:
— Я спрашивала себя, что они подумают, когда узнают. Но что они могут сделать, в конце концов?
— Кто?
— Джулиан, Иокас, фирма; когда узнают, что я решила. Я имею в виду относительно тебя.
— А это их как-нибудь касается? — Вопрос удивил её, и она отвернулась, хмуро глядя на темнеющий морской горизонт. — Кстати, а что ты решила?
На последний вопрос она ответила тем, что увлекла меня под одеяла, где мы уютно устроились, как в колыбели, перемежая сон бодрствованием.
Большую часть ночи мы неторопливо болтали, время от времени не надолго засыпая. Она рассказывала о своей юности, проведённой в Полисе, — отрывочно, вспоминая отдельные эпизоды. Но из этих эпизодов у меня сложилась картина детства, полного одиночества, как и моё, правда, проходившего среди садов Сераглу, в сверкающей пустоте гарема с его неудовлетворённой женской чувственностью. В разомлевшей от летней жары столице она, ещё не успев достигнуть зрелости, узнала всё о половом влечении, что только можно узнать. Узнала и забыла. Может, по этой причине акт любви был для неё лишён всяческого ореола? Не знаю. Она вела себя так, словно её чувства, мысли были заключены в хрупкую скорлупу, рассыпающуюся от неосторожного вопроса. Так, я спросил, жив ли ещё её отец; пустяковый вопрос заставил её оцепенеть. Она выпрямилась, как испуганный заяц, и гневно заметила, что я нарушаю правило, которое она установила. Стоило немалых усилий успокоить её.
На заре или чуть позже мы услышали мягкий гул мотора и увидели длинную пенную линию, тянущуюся к бухте. Она торопливо замотала палец. Пора было собирать вещи и покидать лагерь. Пока лошади спускались по некрутому склону, Бенедикта была погружена в глубокое молчание. Наконец она заговорила:
— Когда ты собираешься подписывать контракт?
Я совершенно забыл об этом, и вопрос застал меня врасплох.
— Ещё не решил. А почему ты спрашиваешь? Она мрачно глянула на меня из-под нахмуренных бровей.
— Странно, что ты можешь сомневаться в нас, — сказала она.
— Но я не сомневаюсь, — запротестовал я, — мои колебания не связаны с сомнениями в надёжности контракта, нет. Ежели на то пошло, контракт даже слишком замечательный. Нет, дело в другом. Понимаешь, мне не так легко сделать это, потому что я люблю тебя.
Она подняла арапник и ударила меня по руке.
— Решайся, — сказала она, — решайся быстрей.
— Постараюсь.
Она с любопытством взглянула на меня, но ничего не сказала. Мы без приключений доскакали до берега. Иокас поджидал меня за гостеприимно накрытым столом, но Бенедикта исчезла, сказав, что позавтракает в гареме. Я попробовал представить себе, как он выглядит: наверно, похож на бонбоньерку, глядящую на тихие воды пролива, сплошь стекло и розовый атлас, свет проникает сквозь узорчатые деревянные ставни; к этому я добавил клетки с грустно поющими птицами, нескольких глухих старух в чёрном и нескольких жёнщин, облачённых в нелепые и безвкусные наряды, выписанные из Парижа и Лондона. Множество золотой фольги и зеркал. А ещё непременно допотопный граммофон с трубой и грудой пластинок со старинными вальсами и прочим джазом, олеографии… Любопытно, насколько эта картина близка к истине. Небось нет, например, ни одной книги.
— Ошибаетесь, — резко сказал Иокас. — У неё там несколько комнат, обставленных с большим вкусом, атлас и золотая лепнина, яркие люстры и электрическая пианола, две чёрные кошки и книжный шкаф, битком набитый книгами в красивых переплётах, изданными «Лоти».
— Благодарю, — с иронией сказал я, и он столь же насмешливо поклонился.
— К вашим услугам. Увы, мы не обладаем вашими талантами. Мне, наверно, надо было стать предсказателем на базаре. Так говорит мой брат Чулиан. Я был неграмотным мальчишкой, даже теперь, знаете ли, читаю и пишу с трудом. Приходится делать вид, что очки куда-то запропастились. Это очень мешает. Поэтому я остаюсь мелким спекулянтом, тогда как Чулиан настоящий король торговли. Я остался здесь, а он получил блестящее образование. Он нашёл покровителя, одного из монахов, которые содержат сиротские приюты, а тот нашёл богатого человека, готового платить за его образование. Я же вечно болел, мочился в постель до двадцати лет. Не имел ни способностей, ни желания учиться. Успокоился только лет в тридцать, когда Мерлин взял нас к себе.
— Так вы были сиротами?
— Да.
— И братьями — откуда вам это известно?
— Это лишь предположение, шутка судьбы в какой-то степени: нас обоих в один вечер подбросили на одно и то же крыльцо. Чем мы не братья? Я люблю Чулиана, он любит меня.
— Я, наверно, вечером вернусь в Перу.
— Пожалуйста, почему не вернуться? — сказал он спокойно, сжав мне руку. Очень милый человек. — Бенедикту вы не увидите по крайней мере два дня. Она проходит курс лечения. Но если она захочет, то свяжется с вами. Думаю, на следующей неделе ей придётся уехать в Цюрих.
Я почувствовал странное разочарование.
— Она ничего не говорила? — не удержался я от вопроса.
— Я не сторож Бенедикте, — нахмурясь, ворчливо ответил он.
Разговор словно упёрся в кирпичную стену; я чувствовал, что, вероятно, сам того не желая, вызвал его раздражение и постарался быть немного помягче.
— Завтра я последний раз встречусь с Вайбартом и приму решение относительно контрактов. Наверняка подпишу контракт на маленькие наушнички, которые я называю «долли». Что касается более общих условий сотрудничества, я ещё должен подумать.
— Я знаю, почему вы колеблетесь, — сказал он и вдруг звонко рассмеялся. — Вы совершенно правы. Как-то, когда я кое о чём упомянул, я заметил по вашему выражению, что вы очень удивлены: поскольку мои слова означали, что кто-то рылся в бумагах, которые вы оставили в Афинах. Я упомянул о новом устройстве для перекодировки речи в систему Брайля, помните?
Он был чертовски прав. Я смотрел на его выдающийся нос и смеющиеся глаза.
— Вы подумали, что это наша работа? Нет-нет. Это сделал Графос, один из его подручных; не знаю, чего уж там они надеялись найти. Но они всё сфотографировали — и записи, и математические расчёты. Так вот, когда мне впервые пришла в голову идея насчёт вас, я попросил Графоса подробно рассказать, что он знает, и оказалось, что знает он многое о том, над чем вы работаете. Я сразу понял, что вы нужны нам, как мы — вам. Мы способны помочь вам сократить на годы сроки исследований, предоставив необходимое оборудование, повторяю, на годы. Как можно исследовать, к примеру, феномен светляка, не имея в своём распоряжении химика или даже большой лаборатории? У нас всё это есть — «Ланн фармасьютикал» принадлежит нам. Понимаете?
«Светляк вырабатывает свет, не используя тепла». Такую глупость написал я однажды. «Обратите внимание. Если понять, как он это делает, то возможно создание нового источника света». Но, конечно, он был прав, вряд ли можно проводить подобные исследования в номере седьмом. Продолжая улыбаться, Иокас внимательно следил за мной.
— Управляемый детонатор, — сказал он, — эксперименты в йодной и содовой ванне — как бы вы осуществили всё это?
Внезапно во мне вспыхнуло, стиснуло горло неудержимое желание сделать объектом экспериментов Вселенную, попытаться воздействовать на её поведение. Я залпом допил вино и, захваченный своими мыслями, сидел, невидяще глядя сквозь него. О Боже! Ведь существовала опасность, что они могли у меня за спиной подкинуть мои безумные идеи кому-то ещё, что другие таланты, располагающие большими возможностями, могли обскакать меня. Мне стыдно за эту мою мысль, но она у меня была! Чистая наука! При чём тут животное?
— А ещё то место, где вы спрашиваете, почему летучая мышь может ориентироваться в темноте, а слепой человек не может даже при свете. Что скажете?
— Помолчите, — оборвал я его. — Я думаю.
Я думал, я бешено думал о Бенедикте, разрываемый противоречивыми сомнениями.
— Не думаю, что отношения с Бенедиктой должны как-то повлиять на ваше решение, — мягко сказал он. Он опять читал мои мысли. Но тут он был не прав; она витала над всеми этими абстракциями и неопределённостью, как призрак, как ignis fatuus[57]. Это продолговатое лицо кобры, казалось, символизировало всё то, что представляло собой это громадное объединение талантов. Я глядел в глаза славе и богатству, и эти глаза, в придачу к иным сокровищам, обещали ещё и любовь.