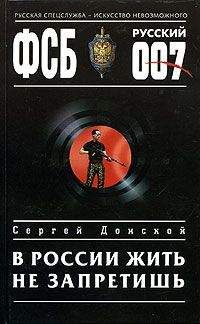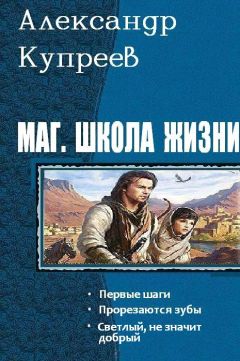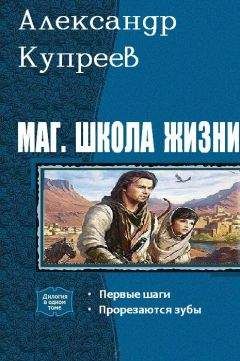Виктория Райхер - Йошкин дом
Потом девочка подросла и носила Юсе рассказы не про куклы, а про уроки. Потом Юся как—то предложила девочке помочь ей с химией, и они открыли книжки и хотели учиться, но в углу комнаты неизвестно откуда появилась серая мышь, и они уже не могли заниматься, потому что обсуждали, что лучше — приручить мышь или прогнать. Девочка была за приручить, а Юся — за прогнать, потому что она боялась мышей. В конце концов девочка уговорила Юсю попробовать приручить, но приручать уже было некого, потому что мышь ушла, а про химию забыли. Потом они долго смеялись девочка уверяла Юсю, что химия — это и сеть та самая мышь, просто она не захотела, чтобы ею занимались. Потом как—то летом девочка придумала кричать с балкона разные имена просто так и смотреть, кто на них внизу начнет крутить головой. Юся была против, потому что это неприлично — кричать с балкона, но девочка ее уговорила и крикнула первая «Юся!» — и конечно, никто крутить головой не начал, потому что Юся была в комнате, а другой Юси ведь не было. Потом уже зимой Юся подарила девочке старомодные пушистые варежки и сказала, что это она сама связала, по каким—то моделям и девочка не поверила, потому что варежки выглядели совсем старыми и кое—где даже протерлись. Потом девочка сама сшила кошку из ткани и принесла Юсе показать, и Юся так восхищалась, что пришлось кошку Юсе подарить. А потом Юся умерла.
Девочка не сразу об этом узнала, потому что поздно пришла из школы. В девятом классе было не так как в восьмом, там учились до четырех, потом еще надо было остаться поговорить с одним человеком, в общем, девочка поздно пришла из школы. В квартире ее встретили холод и никого. Должна была быть мама, но мамы не было. Девочка руками вытащила из холодного супа кусок мяса, надкусила его и пошла к Юсе. У Юси ей долго не открывали, совсем как когда—то в два часа ночи, а потом вдруг открыла девочкина мама и сказала, что к Юсе нельзя, потому что Юся умерла. Девочка не поняла, как это может быть, потому что позавчера они с Юсей сидели за столом и пили жасминовый чай, а вчера ведь не случилось ничего такого. Ну что ты хочешь, сказала мама, такой возраст, восемьдесят семь лет, нужно за нее радоваться, она умерла, как святая, просто легла спать и не и проснулась, не мучалась, не болела ничем, восемьдесят семь лет, шутка ли. Иди домой.
Девочка пошла домой, но потом передумала и вышла на лестницу. Мама с ней домой не пошла, наверное, была еще у Юси, хотя непонятно, что она там делала, раз Юся умерла. Девочка подумала, что, может быть, мама пошутила и Юся не умерла, а просто они с мамой решили девочку разыграть. Она еще раз быстро спустилась к Юсе, но ей никто не открыл, совсем никто, как будто дома никого не было, а этого уже не могло быть никак, потому что Юсе действительно было восемьдесят семь лет и она уже года три не выходила из дома. Девочка приносила ей продукты, а гуляла Юся на балконе. Девочка выбежала на улицу и посмотрела на Юсин балкон. На балконе Юси не было.
Потом девочка долго сидела дома и ничего не делала, потом пришла мама и ничего не сказала. Потом девочка думала, с кем она теперь будем дружить. Потом она отказалась ехать на Юсины похороны. Потом все—таки поехала. А потом, много лет спустя, она, маясь молчанием рассказала кому—то: когда мне было четыре года моей лучшей подруге было семьдесят семь. Вот бедняжка, отозвался кто—то, тебе что, совсем не было с кем дружить? Почему не было, удивилась девочка, я же как раз говорю что было. Ну да, кивнул кто—то, бывает и такое. Девочка не поняла, что это за «такое» и почему оно «бывает», но на всякий случаи промолчала. Она вообще была молчаливая.
ДЕВЯТОЕ МАЯ
Неважно, кем оно было в том своем воплощении: девочкой или мальчиком; кажется, все—таки девочкой, да, девочкой, точно. У этой девочки, которой оно в том своем воплощении оказалось, даже имя было, например, Елена, или там Ольга, или, допустим Нюра, или Алина — какое—нибудь хорошее женское имя, и ее им звали; даже, может быть, Майя. А что? Майя, Майечка, красиво, ладно, ну да. И вот живет эта Майечка—Майя, потому что родилась в мае, мама, кстати, хотела мальчика. И если бы все—таки повезло, то был бы Павел, она давно так решила, но Павла не получилось, может, поэтому девочка Майя была слегка неудачная, нестрашно, многие дети такими бывают, но с ней почему—то никто не дружил. И девочка тогда учится в четвертом классе, нет, в третьем, в том, где еще носят по праздникам такие, знаете, формы — с юбкой и блузкой, эти формы называются «пионерские», и юбка в складку, а блузка жесткая, мальчикового немножко покроя (снова мальчики — Павел?), и обязательно пионерский галстук, нельзя же без галстука, потому что девочка Майя живет ровно в начале восьмидесятых голов, и там, в этих восьмидесятых годах, у нее школа и класс, и пионерский галстук, и скоро праздник, тоже майский, как ее имя, и поэтому нужно юбку в складку и белую блузку, и гольфы. Ах да, ну вот я и вспомнила — девочка, оно тогда точно было девочка, а не мальчик, потому что у нее были гольфы, конечно, у вас таких не было, а у нее были.
Син—те—ти—ка. Раньше она носила носки, если жарко, но обычно совсем не жарко, поэтому колготки, противные колготки гармошкой, вечно сваливаются и нужно подтягивать, а как подтягивать, если кругом мальчишки, не задирать же юбку, один раз задрала за углом, и этом видели, ужас. Потом долго дразнили, ее вообще часто и нудно дразнили, она была немножко странная, маленькая, очень светлая, волосы почти белые и стрижена под мальчика, лесенкой, у мамы денег на парикмахера нет, откуда, папы тоже нет, откуда, был когда—то, потом ушел, не суть. Длинная юбка, как после старшей сестры, хотя никакой, конечно, старшей сестры, просто навырост, а пионерская блузка всегда сероватая, хотя и чистая вроде, не настираешься на тебя, понятно, не настираешься на меня. Но двоюродная мамина сестра Тетитаня ездила куда—то в Болгарию, чуть ли не в Венгрию, и оттуда привезла — ничего особенного, по мелочи, а вот девочке Майе гольфы, белые, тянущиеся, прозрачные. Так ведь не бывает, чтобы одновременно и белые и прозрачные, да? И Майя натягивала их на руку и рассматривала сквозь них свои пальцы, и пальцы были сквозь эти гольфы даже ничего себе; и на улице был май, и уже почти что тепло, хотя и холодно тоже, но кому это важно, ведь вот же, вот — гольфы. Сбоку на каждом гольфе — картинка, какой—то цветной квадратик на круге или, наоборот, цветной круг на квадрате, не очень понятно, современный такой рисунок, хотя не в нем же дело. Гольфы натягиваются на ноги, высоко натягиваются, до колена, и сразу ноги таинственные такие, немножко белые и немножко прозрачные красивые ноги. Майя не знает точно, красивые или нет, но гольфы ей очень нравятся, и даже делается повеселей, хотя обычно она в эти майские зеленые—белые—красные праздники сильно грустит, потому что боится войны.
Если бы оно в том его воплощении было все—таки мальчиком, может быть, ему и было бы легче с этим всем, со знанием, что вот—вот, буквально через пять минут (и так — каждый день), американские империалисты начнут бомбить и, наверное, бомба будет ядерная, потому что это называется оружие нового века. В школе проводят политинформации и рассказывают про Америку, как там все империалисты хотят войны. Девочка Майя, конечно, не мальчик, но газеты читает и еще она смотрит программу «Время», там какие—то негры и какие—то взрывы, оранжевые. И ночами Майе снятся оранжевые взрывы и летящие руки—ноги — это один раз была такая картинка в газете, называется «карикатура», в ней от взрывов летали руки и ноги, почему—то это должно было быть смешно, почему смешно, не понять. А потом осенью с неба на землю упал самолет, и президент Рейган сказал, а по радио передали: «Я объявляю Россию вне закона, и через пять минут начнется бомбардировка». Майя слышала это точно, она как раз шла по даче, было лето, и они еще жили на Тетитаниной даче, и там радио стояло в окне так, чтобы можно было слушать его из сада, и Майя как раз шла по саду, а по радио как раз такое сказали, а Майя тогда и без того уже три ночи не спала, потому что как спать, если каждую минуту с неба на землю может упасть самолет.
Майе тогда на даче очень плохи спалось, а потом также плохо спалось и и городе, а мама говорила: «Ты бледная, ты слишком мало бываешь на улице» и гнала во двор, а там были девочки, но это же очень страшно — девочки, это почти так же страшно, как война.
Войны Майя боялась очень сильно, до тошноты в горле и каждую минуту, а девочек она боялась, только когда встречала. Потому что сразу же выяснялось, что с ними надо как—то разговаривать (как?) и что—то им отвечать (что?), а они обязательно будут дразнить — например, кто—нибудь что—нибудь скажет, а остальные начнут смеяться, и надо будет, наверное, тоже смеяться, но майя не может, она не может смеяться со всеми, если смеются над ней, она и отвечать не умеет, у нее, когда над ней смеются, мысли сразу делаются неповоротливыми, как деревенские гуси, и все куда—то разом от Майи бредут. У нее остается только ноющее ощущение в животе и мысль, что в следующий раз надо будет обязательно что—то сказать, но она никогда не успевает, потому что девочки сразу уходят; куда они уходят, Майя не знает, ее туда не зовут. И тогда она идет сидеть где—нибудь одна и играет, придумывает сама себе какие—нибудь сюжеты, она вечно играет и вечно придумывает, и классе однажды вытащили из парты ее тетрадку, она туда записала разное, с картинками, которые нарисовала, и девочки громко смеялись; подумаешь, мало ли кто над тобой смеется, будь выше этого, сказала мама, мало ли кто над тобой смеется, скажи им тоже что—нибудь смешное про них, сказала мама и жарила яичницу, скажи им, скажи, легко сказать, а мысли как гуси, а как я скажу, а как же «я объявляю Россию вне закона, и через пять минут начнется бомбардировка»? Мало ли, сказала мама, не вслушиваясь, мало ли кто над тобой.