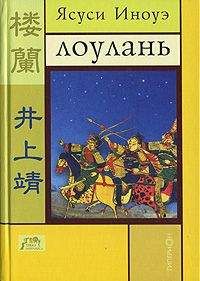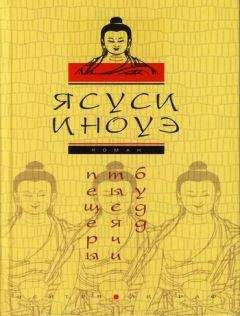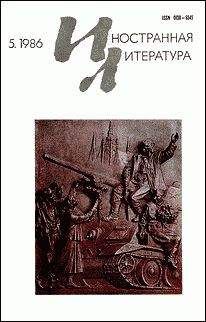Эрнесто Сабато - О героях и могилах
– А все же, падре, в одной французской газете я читал рассуждение о философской глубине Борхеса.
Ринальдини с мефистофельской усмешкой предложил им сигареты.
– И не говорите…
Он поднес обоим огоньку, затем сказал:
– Возьмите любой из таких дивертисментов. Например, «Вавилонскую библиотеку». Здесь он жонглирует понятием бесконечного, смешивая его с неопределенным. Элементарное различие, о нем говорилось в любом завалящем трактате на протяжении двадцати пяти веков. И, естественно, из абсурдной посылки можно сделать любые выводы. Ех absurdo sequitur quodlibet. И вот из такой ребяческой ошибки он извлекает идею непостижимого мира, создает своего рода кощунственную притчу. Любой студент это знает, и я решусь «гипотетизировать», как выразился бы Борхес, что осуществление всех возможных вариантов сразу невозможно. Я могу стоять и могу сидеть, но не то и другое одновременно.
– А что вы скажете о новелле про Иуду? [77]
– Один ирландский священник мне как-то сказал: Борхес английский писатель, который отправляется кощунствовать в предместья. Надо бы добавить: в предместья Буэнос-Айреса и философии. В богословском рассуждении, излагаемом сеньором Борхесом-Рунебергом, в этом своеобразном скандинавско-буэносайресовском кентавре, нет даже видимости логики. Это богословие в рисунках. Будь я художником-абстракционистом, я тоже мог бы изобразить курицу посредством треугольника и нескольких точек, но бульона куриного из этого не сваришь. Теперь вопрос – игра эта у Борхеса нарочитая или же спонтанная? Я хочу сказать: софист он или мистификатор? Шутить с подобным предметом счел бы для себя непозволительным любой порядочный человек, сколько ни говори, что это чистая литература.
– В случае Борхеса это чистая литература. Он сам так бы сказал.
– Тем хуже для него.
Падре явно рассердился.
– Эти благодушные фантазии на тему Иуды обнаруживают склонность к терпимости и трусости. Высокие понятия – величайшее добро и крайнее зло – представляют опасность. Ныне лжец – это не лжец, он политик. Создается изящное рассуждение о том, как спасти дьявола. Дьявол, видите ли, не так черен, как его малюют.
Падре требовательно взглянул на обоих.
– На самом-то деле все наоборот: дьявол куда более черен, чем его малюют такие люди. И они не то чтобы плохие философы, куда хуже для них, что они плохие писатели. Потому что им недоступна даже та психологическая основа, которую понимал и Аристотель. То, что Эдгар По называл the imp of perversity [78]. Великие писатели прошлого века уже ясно это сознавали: начиная с Блейка и до Достоевского. Но, разумеется…
Он остановился, не довершив фразу. Посмотрел в окно, потом с тонкой усмешкой закончил мысль:
– Так что Иуда бродит на свободе по Аргентине… Он – патрон министров финансов, ибо раздобыл деньги так, как еще никому не приходило в голову. Но все же Иуда был слабоват, он не мечтал о том, чтобы править. Зато теперь, у нас, он, сдается мне, то ли скоро получит или уже получил важный правительственный пост. Впрочем, имея власть или не имея власти, Иуда все равно кончает тем, что вешается.
Тогда Бруно рассказал о своем ходатайстве у монсеньора Хентиле. Усмехаясь с тихой, добродушной иронией, Ринальдини махнул рукой.
– Не расстраивайтесь, Бассан. Епископы мне не разрешат. А что до этого монсеньора Хентиле, который, на беду, ваш родственник, ему бы лучше не заниматься церковным политиканством, а время от времени почитывать Евангелие.
На том они ушли.
«Так он и остался, бедняга, совсем один, в своей поношенной сутане», – подумал Мартин.
XII
Алехандра не давала о себе знать, и Мартин спасался работой и обществом Бруно. То была пора задумчивой печали – дни печали мятежной и мрачной еще не наступили. Душа была настроена в лад с осенью Буэнос-Айреса, осенью, что давала себя знать не только сухими листьями, серым небом и дождями, но и разбродом умов, и хмурым недовольством.
И самого Бруно, к которому он льнул, на которого смотрел ждуще-вопросительно, также точили сомнения; Бруно постоянно спрашивал себя о смысле существования вообще и о «быть или не быть» той глухой части света, где жили и страдали он, Мартин, Алехандра и еще миллионы людей, блуждавших по Буэнос-Айресу, будто среди хаоса, не зная, в чем истина, ни во что твердо не веря; старики, вроде дона
Панчо (думал Бруно), жили, грезя прошлым, авантюристы делали деньги, плюя на всех и вся, а старые иммигранты – например, старший Д'Арканхело – грезили (они тоже) о другой жизни, жизни фантастической и далекой, устремив взор к той, уже недоступной земле и шепча:
Addio pаtre e matre,
addio sorelli e fratelli [79].
Слова, возможно,, произнесенные рядом со стариком каким-то иммигрантом-поэтом в те минуты, когда пароход отдалялся от берегов Реджо или Паолы и когда все эти мужчины и женщины не сводили взоров с горных гряд страны, что некогда была Великой Грецией, глядя на них не столько очами телесными (слабыми, обманчивыми и под конец бессильными), сколько очами души, очами, которые и теперь продолжают видеть те горы и те каштаны через моря и годы: очами застывшими и бессмысленными, не поддавшимися ни нужде, ни горестям, ни расстоянию, ни старости. Очами, которыми старший Д'Арканхело (в своем нелепом, облезлом зеленом котелке карикатурно-смешной символ прошлого и Неудачи, этот неукротимый тихо помешанный) видел свою далекую Калабрию, меж тем как Тито насмешливыми глазками смотрел на старика, потягивая мате к думая: «Эх, черт, будь у меня деньги!» Итак (думал Мартин, глядя на Тито, который глядел на своего отца), что есть Аргентина? На вопрос этот ему впоследствии неоднократно ответит Бруно: Аргентина, мол, это не только Росас и Лавалье, гаучо и пампа, но также – и весьма трагически! – старший Д'Арканхело в зеленом котелке и с отсутствующим взглядом и его сын Умберто X. Д'Арканхело с присущими ему смесью скептицизма и нежности, социального недовольства и неистощимой щедрости, сентиментальности и аналитического ума, чувством хронической безнадежности и жадным, постоянным ожиданием ЧЕГО-ТО. «Мы, аргентинцы, пессимисты (говорил Бруно), потому что у нас большие запасы надежд и иллюзий, ведь, чтобы стать пессимистом, надо, чтобы ты прежде на что-то надеялся. Наш народ – не народ циников, даром что в нем множество циников и приспособленцев; скорее он народ мятущийся, а это нечто прямо противоположное: циник, тот со всем согласен, и ему на все начхать. Аргентинцу же все важно, из-за всего он волнуется, расстраивается, протестует, озлобляется. Аргентинец недоволен всем и самим собой, он обидчив, злопамятен, патетичен и буен. А ностальгия старого Д'Арканхело (рассуждал как бы сам с собою Бруно)… Но ведь у нас здесь сплошь ностальгия, и, верно, мало есть стран в мире, где это чувство имелось бы в стольких напластованиях: у первых испанцев, тосковавших по далекой родине; потом у индейцев, тосковавших по утраченной свободе, по собственному, утраченному для них смыслу существования; позже – у гаучо, оттесненных Цивилизацией пришлых гринго, у гаучо – изгнанников на собственной земле, вспоминающих золотой век дикой своей воли; у стариков, креольских патриархов, вроде дона Панчо, сознающих, что прекрасные времена великодушия и учтивости ушли безвозвратно и настало время скаредности и лжи; и, наконец, у иммигрантов, которым не хватало клочка их родной земли, их тысячелетних обычаев, их легенд, их сочельников у очага. И как не понять старого Д'Арканхело? Ведь чем больше приближаемся мы к смерти, тем больше приближаемся к земле, и не к земле вообще, но к тому клочку ее, тому крохотному (но сколь горячо любимому и желанному!) клочку земли, где прошло наше детство, где мы узнали первые наши игры и испытали волшебные чары, невозвратные чары невозвратного детства. И тогда мы вспоминаем какое-нибудь дерево, лицо друга, собаку, пыльную дорогу в летний день со стрекотом цикад, какой-то ручеек. Что-нибудь вроде этого. Не что-то значительное, но мелочи, ничтожные мелочи, которые в эту предсмертную пору обретают грандиозные размеры, особенно же когда в нашей стране эмигрантов ждущий смерти человек может обороняться от нее лишь воспоминанием, мучительно неполным, бессильным и бесплотным воспоминанием о дереве или ручье детства – отделенных от него не только безднами времени, но и безбрежным океаном. И потому мы видим множество стариков, вроде Д'Арканхело, которые почти не разговаривают и как будто все время смотрят вдаль, а на самом-то деле – смотрят внутрь себя, смотрят в недра своей памяти. Ибо память противостоит времени и его разрушительной силе, словно она есть некая форма, которую принимает вечность в сем мире непрестанных изменений. И хотя мы (наше сознание, наши чувства, наш горький опыт) с годами меняемся и наша кожа и наши морщины становятся свидетельством и уликой этих изменений, есть у нас что-то очень глубоко в душе, в самых темных ее тайниках, что мертвой хваткой вцепилось в наше детство и в прошлое вообще, в жизнь рода и земли, в традиции и в мечты и как бы сопротивляется трагическому ходу вещей: да, память, таинственная память о нас самих, о том, что мы есть, и о том, чем были. Без нее (о, это ужасно! – говорил себе Бруно) люди, утратившие ее, словно при чудовищном, разрушительном взрыве в глубочайших этих недрах, всего лишь хрупкие, непрочные, невесомые листья, уносимые яростным, беспощадным ветром времени».