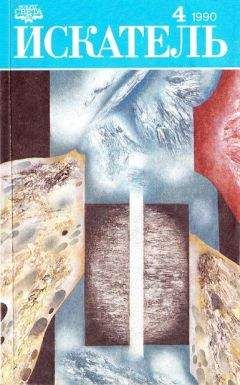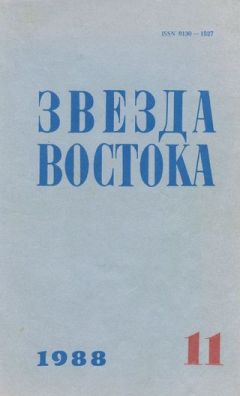Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 2, 2003)
— Милый, добрый Сергей Михайлович! Если хотите мне помочь, отвезите меня как «найденыша» в дивизию, в подразделение, где есть врач или фельдшер. Я верю, что стоит мне облегчить кашель, и я скоро окрепну и буду полезна. Я не подведу вас… Я согласна выехать только на фронт! И без лжи вашей начальству.
Сергей Михайлович согласился наконец на мой вариант. Это был последний час его пребывания в Ленинграде. Утро. 25 марта 1942 года. С. М. ждал шофера с машиной, чтобы вернуться в часть.
Мама собирает меня в дорогу. А чего собирать-то?! Паспорт, комсомольский билет. Взяла и справку об окончании 1 курса двухгодичной медицинской школы — я уже была уверена, что она пригодится. Одета: пальто брата, голова обмотана бабушкиной шалью, как в детстве, на ногах «стеганки» из рукавов старого ватника, с галошами. Кусочек хлеба в кармане, маленькая мамина карточка.
Пришла машина — крытая брезентом полуторка.
Вышли на улицу. Ни души… Летают снежинки. На одно мгновение пахнуло далекой еще весной…
Мама вынесла подушку — зачем? С. М. легко приподнял меня в кузов (сам он должен ехать в кабине — предъявлять постам командировочное предписание, путевой лист или что там полагается в военное время).
Мама кинула мне подушку, велела или сесть на нее, или положить под спину и плотно прижимать спиной к стенке кабины. С. М. подал плащ-накидку, велел в нее завернуться. Все спокойно, деловито. Почти молча, без суеты отправляла меня мама неизвестно куда. Мама не плакала, и я не плакала. Я как-то не осознавала, что происходит, мысли прыгали по мелочам. И вот я поехала по родной улице Петра Лаврова к Литейному проспекту, и пока не завернули направо, я видела маму, смотревшую на машину. Руки опущены вдоль туловища, ни одного взмаха.
Первое письмо от нее мне на фронт начиналось словами: «Доченька, когда ты уезжала, я стояла как мертвая, будто парализовало, — руку не могла поднять, чтобы помахать или благословить тебя на неизвестное, трудное…»
Моя последняя мысль была — суждено ли мне будет увидеть маму и Ленинград, а потом я провалилась в дрему, прерываемую кашлем, — было мне холодно. Сколько и где ехали — не замечала. Машина мчалась быстро, бултыхаясь-кувыркаясь на неровностях (груз-то в ней легкий: интересно, сколько я тогда весила?), меня подбрасывало и качало из стороны в сторону, а это усиливало кашель и боль в боку. Мне казалось, будто не со мной все это происходит, а я смотрю кино.
При въезде на Ладожскую дорогу машина остановилась. С. М. с кем-то разговаривал, потом заглянул в кузов, спросил, как себя чувствую. Он-то и сказал, что теперь поедем по Ладоге…
Теперь я выяснила, что от берега до берега 30 км., а вообще длина озера 200 км., ширина — 140 км.
Задний борт не закрыт брезентом, и я вижу убегающую назад дорогу, «озерный» простор и машины, идущие к Большой земле и назад — к Ленинграду, с продуктами: мешки, замерзшие мясные туши.
И опять полусон-полуявь. Чтобы не чувствовать в сердце (или в легком?) «кинжалов», дышу чуть-чуть.
…И вот едем по лесу. Над ним летит осветительная ракета… Это кажется, что близко, на самом деле не здесь. Где-то татакает пулемет. Остановились…
Кто-то спрашивает Сергея Михайловича, куда идет машина? Он ответил: в медсанбат. Просят взять раненых. Через полчаса подготовят их документы. С. М. вытащил меня из машины и привел в землянку погреться. В землянке тепло и сыро. Коптилка. На нарах раненые. С потолка капают капли в подставленный котелок. Входят и выходят люди. С удивлением смотрят на меня. И каждый безошибочно определяет. «Из Ленинграда? Как там? Скоро прорвем блокаду!»
Погрузили трех раненых: двое лежачих, один — сидит. Один из лежачих проследил взглядом за мной, когда я устраивалась в машине, сказал:
«Тетенька, ты из блокады? Возьми у меня хлебушка кусочек, в кармане шинели…»
Я подложила свою подушку под головы лежачим. Сидячий пощупал подушку и сказал: «Надо же! Настоящая! Перовая! Давно не видел…»
Ехали, как мне показалось, недолго. Поселок, вернее, бараки (вроде того барака-общежития в Лесном, где жили мы). Кругом лес.
Машина остановилась… Раненых унесли в барак. Подошедший к машине военврач спросил Сергея Михайловича, всех ли выгрузили и у кого сопроводительные документы на них. Сергей Михайлович и врач называли друг друга по имени-отчеству, а не по званию. Я оставалась в машине.
С. М. ответил врачу, что есть еще один пассажир, но не раненый, а больной, особый больной… и с этими словами С. М. быстро влез в кузов и хотя и шепотом, но требовательно произнес:
— С этого момента мы должны друг к другу обращаться на «ты». Ты сейчас предстанешь перед лицом командира медико-санитарного батальона — Алексин Борис Яковлевич его зовут. На его вопросы о тебе буду отвечать я, твое дело — помалкивать, если даже я что-то скажу не так…
С. М. помог мне выбраться из машины.
Комбат вопросительно поднял брови:
— А эта хвороба откуда? Где подобрали? Вы же знаете, Сергей Михайлович, что мы не имеем возможности обслуживать гражданских лиц… А дальше куда мы ее направим? Вы из Ленинграда? — спросил комбат меня. — Печать истощения блокадного… Я прав?
— Да, — ответила я, хотела продолжить, но С. М. перебил:
— Товарищ комбат, я вывез из Ленинграда жену… прошу приютить на недельку, прошу врачебного осмотра, а потом я ее отправлю к своей матери… Извините, тороплюсь в полк… при первой возможности загляну…
И тут же уехал.
Мне хотелось заскулить. Да, я чувствовала себя щенком, жалким, беспомощным, обманно подкинутым к людям, которым не до меня. Презирала себя за то, что не опровергла ложь. А как объяснить правду? Все равно я соучастницей лжи стала уже, промолчала…
Комбат вызвал старшину, распорядился отвести меня в барак, вызвать терапевта, «еды блокаднице пока не давать»…
Барак… двухъярусная система нар. Дымит печка, холодно. Кто-то спит, кто-то встал с нар и торопливо собирается на смену, кто-то ложится на освободившееся место. Все женщины, девушки. С верхнего яруса слезла младший лейтенант — седая, с птичьим лицом, — сразу же стала опекать, узнав, что я из Ленинграда, помогла забраться наверх, на ее место, и велела спать. Печка страшно дымила, кашель не давал лечь, и я сползла вниз, предложив свои услуги в качестве истопника.
Седая фельдшерица — звали ее Екатериной Васильевной Агаповой (москвичка) — приговаривала: «Ну и ладно… ну делай, как тебе лучше… Все обойдется, все будет хорошо».
Днем она привела двух женщин-терапевтов. Гражданских здесь нет.
Главный терапевт медсанбата — Прокофьева Зинаида Николаевна и ее ординатор Качурина Мария Ивановна, Мусенька, как называла ее Зинаида Николаевна.
Когда я разделась до пояса для осмотра, на лицах здоровых, сытых людей заметила сострадание…
З. Н. воткнула в мой левый бок кулак, отпустила… тихо сказала Марии Ивановне:
— Видишь, Мусенька, какая подушка при общем исхудании и какая ямка от кулака… Теперь послушаем, что там внутри…
— Здесь, думаю, явный ТБЦ. Если так, то в наших условиях мы ничего не сделаем. И рентгена нет. И весна! Таяние снега, сырость, холод. Кашей не поправишь…
Потом слушала меня Мусенька:
— Мне кажется, что тут случай запущенного экссудативного плеврита… Конечно, при неблагоприятных условиях опасность перехода в ТБЦ…
— Без рентгена мы с тобой не ответим на вопрос, перейдена эта грань или еще нет. Из своего опыта знаю, что запущенный экссудативный плеврит означает то, что я первоначально сказала. Хорошо бы с первой партией раненых направить ее в тыловой госпиталь, скажем, к Порету?
Присутствующий здесь комбат сказал:
— Порет отправит ее в глубокий тыл официальным порядком…
— Надо послать с нею для Порета письмо — все объяснить. Только рентген, и обратно сюда, а уж тут муж сам ее отправит к матери…
Алексин спросил меня:
— Свекровь-то у тебя хороший человек? Поможет стать на ноги? Тебе надо лечиться, работать ты не вдруг-то сможешь… Если отправим тебя в госпиталь на рентген, ты никому там не говори, что из Ленинграда… а мы Порету напишем, чтобы никуда дальше не отправлял тебя. Вернешься с первой нашей машиной, которая приедет туда с ранеными.
И тут меня прорвало:
— Я очень прошу — после рентгена оставьте меня здесь! Я не хочу никуда ехать — ни в Молотовскую область, ни в другие места… Я понимаю… вы не обязаны… вам не до меня, но я прошу… я уверена, что очень быстро поправлюсь и пригожусь вам на любой работе…
Алексин горько усмехнулся:
— Наша работа не для тебя, во всяком случае, в теперешнем состоянии твоем: пилить дрова, стирать окровавленное белье, таскать раненых, идти пешком тридцать — сорок километров, спать на снегу, на земле, дороги чинить и т. д.
— Я выносливая!.. Я все смогу! Я прошу!
(Окончание следует.)
Публикация и предисловие АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО.Владимир Губайловский