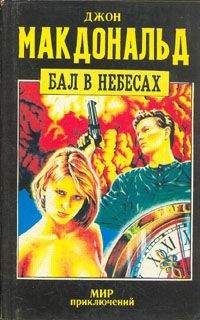Андрей Дмитриев - Бухта Радости
– Да, – вступил Карп, перебивая. – Тут у меня сомнение возникло. Можно ли поминать человека, пока он еще не похоронен?
– Не знаю, – сказал Стремухин. – Обычно поминают сразу после похорон… Я не могу сказать наверняка, но, думаю, нельзя.
– И помянуть нельзя, – сказал, вздохнув, пилот. – Но и не помянуть нельзя.
– А хочется помянуть, – сказал Карп. – Душа просит помянуть.
– Ишхан такой хороший, – сказала, дрогнув, Карина. – Он был такой хороший. Он так грустил без Ливы. – Она посмотрела на Стремухина, и он увидел на ее лице полоску туши, спустившуюся черным шрамом по щеке. – Лива была его жена. Мама Гамлета. Гамлет сейчас на разные вопросы отвечает, бумаги разные читает и подписывает. Уйди, сказал, тебе здесь ни к чему, ты устаешь, переживаешь, и ты мне мешаешь.
– Ужасно, – сказал Стремухин.
– Наверно, все же надо помянуть, – сказала Карина.
– Давайте, все мы будем думать об Ишхане, – сказал пилот. – Но каждый пусть помянет про себя того, кого хотел бы помянуть. Всем есть кого помянуть… Ишхана мы пока не поминаем, но мы думаем о нем. Я что-то непонятное сказал?
– Нет, все понятно, – отозвалась рыженькая. – Я помяну мою маму, хоть я ее совсем не помню. Но буду думать об Ишхане, хотя я никогда его не видела.
– Спасибо, девочка, – сказала Карина. – Я Ливу помяну, пускай она меня и не ценила. Но помяну. И буду думать об Ишхане.
– Ну, что ж, помянем, – сказал Карп и поднял свой стакан.
Все выпили: кто водки, кто вина, кто спрайта.
Пилот спросил у Карпа:
– И что, кого ты помянул? Или секрет?
– Трудно сказать, – ответил Карп. – Я – так; не что-то, не кого-то, а вообще. Всю нашу прошлую, прекрасную жизнь.
– Чего же в ней было прекрасного? – спросил Стремухин по привычке.
– Ты штатский, не поймешь, – миролюбиво сказал Карп. – А я был офицер. Утром как выйдешь, как построишь батальон… “К поднятию государственного флага Союза Советских Социалистических Республик…! На защиту рубежей социалистического отечества…! Равнение на…!” И мураши по коже, и не потому, что утро и свежо€… Вот это было да.
Пилот спросил:
– Где же такое было?
– Повсюду было, – строго сказал Карп. – В моем конкретном случае – под Ференцварошем. Венгрия. Южная группа войск.
– Что ж, повезло тебе, – сказал пилот. – Вино, мадьярки, заграница. А я южней Иркутска не летал.
Карп согласился:
– Повезло, – и налил себе водки. – Но вот насчет мадьярок ты неправ. Мадьярки только в оперетте хороши. А так посмотришь – кривоногие, коротенькие, и шеи никакой, и брови, как у Брежнева, носы квадратные… К тому же я там жил с женой.
– Не повезло, – сказал пилот.
– Нет, не скажи, – ответил Карп. – Мне так везло, как некоторым в самом сладком сне не снилось. Вот ты, к примеру, знаешь, что там повсюду были не колхозы, а частные хозяйства? Там фермы были, каких у нас даже сегодня нет и никогда уже не будет.
– Ну, фермы, а тебе-то что? – спросил пилот.
– А то, что каждый фермер мне и кланялся, и звал на рюмочку хорошей паленки. Ты у себя в Сибири и не слыхивал, какая она, паленка; больше всего я всем рекомендую из черешни… А почему меня поили самой лучшей паленкой? А потому, что фермерам нужны рабочие. Как у нас раньше говорили, батраки. Какой ни есть ты работящий, а урожай собрать – не хватит никаких рук. Приходится идти ко мне. Товарищ Карп, спасайте: у меня на ста гектарах вовсю созрели абрикосы. Или: товарищ Карп, тут кукуруза пропадает. А ты не бойся, говорю, не пропадет. Сколько людей тебе нужно? Десять? Двадцать? Тридцать?… Нет, тридцать мне не по карману, говорит; пришлите двадцать. Он мне отслюнивает форинты, я вызываю младшего сержанта: бери людей, в распоряжение товарища Атиллы, по абрикосы – шагом-марш!
– Я вас не понял, – перебил Стремухин. – Форинты – кому?
– Он продавал своих солдат венгерским фермерам, – растолковал ему пилот.
Карп не стал спорить:
– Пусть продавал… Вон, футболистов продают – никто за них нигде не возмущается. Даже завидуют.
– Твоим солдатам, думаю, платили чуть поменьше, чем Бэкхему, – сказал пилот с усмешкой.
Карп возразил:
– Им не платили, не положено. Где у солдата деньги, там и пьянство, и развал всей дисциплины… Но их кормили, и они были довольны. В солдатской столовке так не пожрешь. Конечно, не гуляш, не мясо, но мамалыги, или как у них там эта кукуруза называется, – этого всегда от пуза, и добавки сколько пожелаешь… Нет, они были довольны. Тут тебе служба идет, а тут тебе и мамалыга с абрикосами на свежем воздухе.
– Твое начальство тоже было довольно? – спросила Карина.
– А что начальство? Тоже наши люди… Где объяснишь ему, а где поделишься… К тому же у меня всегда был про запас надежный довод. Как чувствую, над Ференцварошем сгущается гроза, что означает: жди комиссию, я сразу чищу ружья. Комиссия свою работу сделает, я говорю: ласково просим отдохнуть и поохотиться на кабана.
– Ну что ж, охота – веский довод, – сказал пилот.
– А вот и нет, не угадал, – обрадовался Карп. – А вот и не охота, хотя, конечно, и охота. Все дело не в охоте и даже не в убитом кабане. Все дело в легком.
– В смысле? – не понял Стремухин.
– Я им готовил легкое из кабана. Они заранее про это знали и предвкушали целый день, пока идет проверка, как я им испеку кабанье легкое.
– А на рецепте, ясно, гриф “военная тайна”, – сказал пилот, и Карп ему ответил:
– Не тайна, нет, но ты так не сготовишь. Довольно дорогой рецепт, я так скажу. Во-первых, нужен только что застреленный кабан, причем с неповрежденным легким. И, во-вторых, полная фляга молока.
– Что, целых тридцать литров?
– Положим, пятьдесят, – гордо поправил Карп.
Карина удивилась:
– Зачем? Кабан не слон.
Карп подтвердил:
– Кабан не слон, да, но таков рецепт… – Он выпил, сыром закусил, потом продолжил: – Я вынимал из кабана легкое, мыл и подвешивал его к абрикосовому дереву.
– Обязательно к абрикосовому? – спросил Стремухин.
– Просто под боком не было других… Затем я начинал лить кружкой в легкое из фляги молоко. Легкое, если вы знаете, это такая губка. Я понемногу сверху лью, и легкое вбирает молоко, и снизу выливается на землю все жидкое, вся эта сыворотка. А все, что в молоке полезного и твердого, там, в этой губке, в легком, оседает. Работа длится долго, тут терпеть, не подгонять… И вот, когда я этаким манером сквозь легкое пролью всю флягу, все пятьдесят литров парного, прямо с фермы, молока, только тогда можно сказать, что легкое готово. Оно все туго напиталось этим питательным молочным жиром. Оно готово, но еще не приготовлено. Тут я его снимаю с дерева, и запекаю на углях, и подаю на стол. Это и есть мой главный довод.
– Должно быть, гадость, – предположила Александра.
Карп не обиделся.
– Вот ты сейчас сказала “гадость”. А наш полковник Семисестров за эту “гадость” был готов и родину продать. Конечно, не в буквальном смысле, он был советский патриот, но у него такая присказка была: “Я за твое кабанье легкое, майор, готов и родину продать”. Вот так он говорил.
Карп замолчал, нахмурился, уставился в тарелку с сыром, качая молча головой, словно он с кем-то спорил и решительно не соглашался.
– А ты, малыш, кого решил сегодня помянуть? – спросил пилот у рыжего.
Тот засмущался, поглядел в лицо подружки, словно ища поддержки у нее, потом признался:
– Я никого, я Лорда помянул, это была моя собака, но только вы не обижайтесь, что он был не человек. Мы с мамой Лорда очень любили, мама взяла его, когда меня еще на свете не было, и прожил он у нас шестнадцать лет. Он был эрдельтерьер.
– Ты не волнуйся, я не обижаюсь, – сказала ему Карина. – Чего тут может быть обидного, если вы его любили.
…Стремухин снова выпил водки и головой мотнул, силясь стряхнуть с себя взгляд Александры, глядевшей на него, почти не отрываясь. Теплая водка жгла гортань; язык деревенел; намокшая рубашка липла к телу и теснила грудь…
– А вы? – спросила Александра, и он отвел глаза. – Кого вы поминали, когда выпивали? Или не можете сказать?…
Стремухин оборвал ее:
– Там, извините, угли, думаю, дошли…
Он торопливо встал со стула и, не оглядываясь на нее, пошел к мангалу.
Угли дошли, были прозрачны; алой волной качаясь и колеблясь, сквозь них тек свет; сухой, глубокий, ровный жар шел от них вверх. Стремухин опустил поочередно на мангал все десять шампуров. Часов он не носил, и потому стал сам считать секунды, готовясь через три минуты перевернуть все шампуры, чтобы шашлык на них не подгорел.
– И – раз, и – два, и – три… – считал он громко вслух, стремясь забыться в этих громких мерных выкриках, сосредоточиться на счете и остановить им возвращение в мысль о смерти, начавшееся вновь после того, как дождь прошел над Бухтой. – И – четыре, и – пять, и – шесть…
Жар углей был силен; Стремухин, чтоб не оплошать, не стал ждать трех минут, перевернул все шампуры уже на сто двадцатом выкрике; все больше увлекаясь работой углей, развеселился понемногу… Теперь он не выкрикивал, но выборматывал секунды и через две минуты опять перевернул все десять шампуров. Цвет мяса был умеренно коричнев, оно пеклось, но не обугливалось, и, еще раз перевернув его, Стремухин дальше вел свой счет уже и молча. Раскачиваясь и вдыхая пряный, горьковато-сладкий, будто жженый сахар, загустевающий шашлычный дым, он про себя твердил, словно заучивал: “… и – тридцать, и – тридцать один, и – тридцать два, и – тридцать три”, но не успел он выйти из минуты, как был сбит с толку и со счета шумным дыханием за спиной.