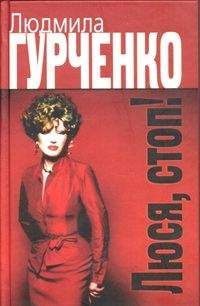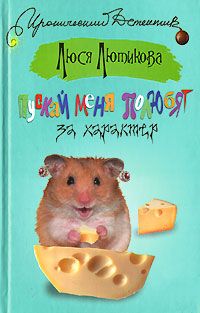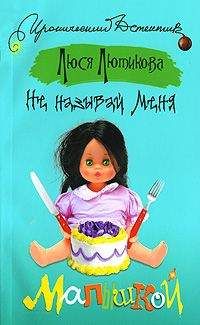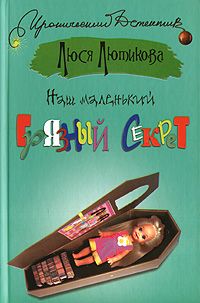Василий Аксенов - О, этот вьюноша летучий!
– Эй, главстаршина, глянь-ка. Узнаешь?
– Женька Малахитов, – хмуро сказал типус. – Царствие ему небесное…
С этими словами он вышел.
– Он что же?.. – спросил Петя.
– Погиб Женька. А этот… – Мамочко кивнул в сторону арены, – не тот человек, не тот… Недаром он в военкомате притерся, возле документов…
– А вы откуда знаете, товарищ Мамочко? – спрашивает, стуча зубами, Петя.
– А вот оттуда. – Мамочко показывает мальчику издалека какую-то красную книжечку. – Всего сказать тебе не могу. Теперь понимаешь?
– Кажется, догадываюсь, – постукивая зубами от напряжения, говорит Петя.
– Будем брать, – жестко говорит Мамочко. – Но для начала нужно его незаметно обезоружить. Возьмешь на себя?
– Да!
– Молодец! Горжусь! – рявкает гигант. – Вместе с ними горжусь! – Он показывает рукой на «товарищей по оружию». – Ты сам из Ленинграда?
– Да, из Ленинграда… – шепчет Петя.
– Ленинград… – с тяжкой мужской горечью произносит Мамочко и на секунду, как бы отрешается, как бы уходит памятью в былые бои. Потом как бы смахивает воспоминания, журчит ласковым котом: – Ну, а как у тебя на билетном фронте?
Вконец замороченный мальчик кладет на стол пачку денег. Мамочко небрежно смахивает деньги в ящик стола, поясняя – «спецфонд» – и, наконец, наносит завершающий удар, последний мазок на холсте: ставит на стол лакированные туфельки.
– А это тебе. Узнаешь, Петяй? Матухины, ленинградские?
– Откуда вы знаете? – заплетающимся языком спрашивает мальчик.
– Мы все знаем…
Поздним вечером 9 мая 1945 года в мраморном доме, как и во всем городе, как и во всей стране, люди не спали. Во всех кабинетах и углах включенные на полную громкость радиоточки передавали музыку. Все ждали…
– Камил Баязитович, ну скажите, ну, пожалуйста, – приставал к административному работнику фотограф-сапожник дядя Лазик. – Ведь сегодня, правда же? Сегодня, да? – он многозначительно показывал на круглую тарелку репродуктора.
– Поживем – увидим, – посмеивался Камил Баязитович. – Всякому овощу свое время. Главное, товарищи: враг будет разбит, победа будет за нами.
– Нина Александровна! Товарищ Самолюбовер! – бросился дядя Лазик к соседке-юрисконсульту. Он был охвачен радостным возбуждением. – Думал ли я, отступая из Гомеля, что доживу до этого дня?!
Нина Александровна в парадном крепдешиновом платье курила толстую папиросу «Герцеговина Флор» и прослушивала патефонную пластинку:
Сашка, как много в жизни ласки.
Как незаметно бегут года… —
хрипел патефон. Дама с затуманенным взором протянула дяде Лазику портсигар с «Герцеговиной».
– Всю войну берегла и вот не сдержалась. Это «Герцеговина Флор». В нашем кругу до войны курили только эту марку. Угощайтесь, Лазарь, но прежде дайте-ка я вас поцелую.
Дядя Лазик зашатался, потрясенный отличнейшим поцелуем, и с папиросой за ухом бросился на кухню.
На кухне поправившаяся тетя Зоя, раздув огонь под гигантской миллионерской плитой, во главе целого отряда женщин колдовала над пирогами. Ребята крутились вокруг плиты, но тетя Зоя на них покрикивала:
– Цыц-те! Вот как объявят, так и запируем…
– Товарищи женщины! Это нужно увековечить! – Дядя Лазик влез на кухню со своей треногой. – Пирог победы! Внимание!
– Дядя Лазик, – дернул его за штанину какой-то малыш. – А что бы вы с Гитлером сделали, если бы поймали?
– Я бы! Я бы! – задохнулся дядя Лазик. – Я бы отхлестал мерзавца по щекам! При всех, дети! Заметьте, при всех!
Женщины и дети сгруппировались вокруг плиты для снимка, но тут в кадр, потрясая роскошными мускулами, влез хмельной Боря Мамочко.
– Кому война, а кому мать родна! – басит он косым ртом. – Эй, Лазик, курочка ряба! Я тебя имел!
Играя плечами, выпирающими из белой майки, молодой инвалид стал теснить фотографа в коридор, напевая:
Дорожку, не спеша,
Старушка перешла,
Навстречу ей бежит мильционер…
– Борис, возьмите себя в руки, – говорит дядя Лазик. – В такой день, Борис!
В коридоре появилась Марина, и Мамочко тут же забыл про фотографа. Девушка шла быстро, вид у нее был озабоченный и хмурый, но Мамочко преградил ей дорогу.
– Маринка, с победой! Хочешь портвейну? Маринка, новую жизнь хочу начать, от тебя зависит… махнем в Ашхабад?
– Ну вас к черту, Мамочко! – Марина резко оттолкнула его и хлопнула перед его носом дверью.
– Видали?! – возопил Борис. – Инвалида обижают! Ахиллеса Второй мировой войны! Ну, Маринка, запомни – все равно от меня не уйдешь!
– Прекратите безобразничать, гражданин Мамочко! – прикрикнул на него из своих дверей Камил Баязитович.
– Прекращаю. – Мамочко стушевался и скрылся в своем полуподвале.
Марину в ее жилище ожидал Малахитов, по обыкновению с книжкой. Пальтецо его висело на учебном пособии, т. е. на скелете в непосредственной близости от камина.
Когда Марина вошла, Малахитов бросился к ней, но она отстранилась и воскликнула:
– Женя, представляешь, какой ужас!
– Что случилось? – побледнел Малахитов.
Как раз в этот момент из камина высунулась чумазая рука, быстро скользнула к карману малахитовского пальто и исчезла уже с наградным пистолетом.
– Со станции пропала партия пенициллина, – проговорила Марина. – У нас в госпитале траур. Пенициллин – это ведь чудо! Он мог спасти сотни жизней! – Она в отчаянии швырнула свою сумку на кровать.
– Урки? – спросил Малахитов.
– Ну, а кто же еще? Сторож, говорят, был мертвецки пьян, да еще и связан. Сволочи какие, это просто нелюди… Что может быть отвратительнее, Женя, чем наживаться на лекарствах. На чужих жизнях!
Девушка закрыла глаза ладонью, несколько секунд постояла так, потом спросила:
– Петька не появлялся?
– Не-нет, – запинаясь, виновато проговорил Малахитов.
– Петя! Петя! – крикнула Марина в камин.
В ответ только загудела труба.
– Вот горе-то мое! – совсем «по-бабьи» вздохнула девушка. – Второй день не появляется. И чего он тебя невзлюбил, Женечка?
– Я об этом много думал, Марина, – сказал Малахитов. – Сначала он разочаровался во мне из-за этого пальто, из-за демобилизации, герой превратился в канцелярскую крысу, потом в предатели зачислил, не знаю уж почему, но… на самом-то деле он, наверное, бессознательно боится, что я отниму у него…
– Меня? – тихо спросила Марина.
– Ну да… разве ты не догадалась? Ведь он еще ребенок, и кроме тебя…
– Наверное, ты прав, – проговорила Марина. – Самое неприятное, что он попал под влияние этого мастодонта…
– Кстати, о Мамочко, – прервал ее Малахитов. – На днях майор Ковалев почему-то затребовал его дело из архива. Оказывается, он никакой не моряк, а в хоз-взводе служил, а с ранением дело темное…
– Что это? – вдруг воскликнула Марина.
В камин из трубы спускались обмотанные бечевкой лакированные лодочки. Сверху к бечевке была прикреплена фанерная дощечка с надписью: «Поздравляем с победой! Доброжелатель».
В коридоре, в темном углу, Петя осторожно стучится к Мамочко. Дверь не открывается. Снизу доносится рев хмельных голосов:
На пароходе я плыла,
Погодка чудная была…
– Петя!
Услышав голос Эльмиры, мальчик отскакивает от дверей и сует руку в карман. Эльмира подходит к нему. В ожидании победы она принаряжена – новое платье, свежие банты, белые носки. Уверенная, что все это произведет на Петю очень сильное впечатление, она стоит, скромно потупив глаза.
– Ну? – мрачно спрашивает Петя, цыкая сквозь зубы.
– Сегодня мне разрешили не спать, – говорит Эльмира.
– Ха! А знаешь, что у меня в кармане?
– Нет, не знаю…
– Одна маленькая собачка, которая больно кусается, – таинственно прошептал Петя и после этого дьявольски захохотал.
– Петр, ты несносен! – всплеснула руками Эльмира, но мальчик уже несся от нее прочь по коридору.
Ильгиз работал в подземелье, словно шахтер в забое, когда, возбужденно блестя глазами, туда заполз Петя.
– Гизя, смотри! – прошептал он и показал товарищу лежащий на ладони маленький пистолет.
– Откуда? – воскликнул Ильгиз.
– Я обезоружил опасного преступника и должен передать этот шпалер кому следует… Между прочим, заряженный!
– Что-то ты, Петька, заливаешь! – недовольно сказал Ильгиз. – Вообще тут о тебе беспокоится… Электрификация твоя… Со мной говорила.
– Это почему же моя?
– А чья же?
Ильгиз сильно ударил ломиком в стену, и… кирпич упал в темноту, по ту сторону стены что-то звякнуло.
– Фонарик! – крикнул Петя, бросаясь вперед.
Луч фонарика осветил сквозь отверстие в стене бок какой-то бочки, угол кованого сундука…
– Вот она, пещера Аладдина! – пробормотал, трясясь от возбуждения, Петя.
– Неужели действительно клад? – у невозмутимого Гизи постукивали зубы. – За работу, мастер Пит, за работу!