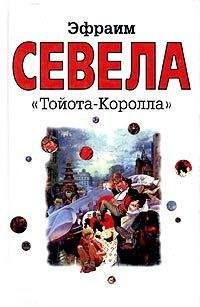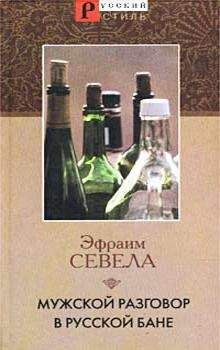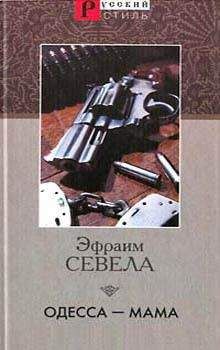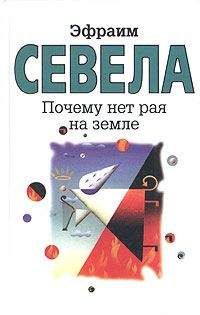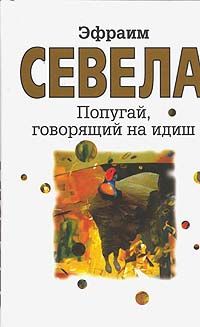Ирина Муравьева - Любовь фрау Клейст
Теперь она знала, как все это было: они познакомились на свадьбе у Слонимских. Сидели вместе за детским столом. Она видела, как Соня и Джина рассказывали что-то, а девочка слушала, смеясь и откинув головку! Потом она вдруг помрачнела и стала проситься домой. Они и уехали раньше.
На следующий день после свадьбы Нина сказала, что хочет заниматься в школе современного танца. Еще через две недели была эта история с наркотиком. Потом анорексия. Все!
Не было еще десяти, когда Даша подъехала к его дому на Оливер-роуд. Дом стоял на пригорке, казался большим и тяжелым. Напротив был лес в белом свете зимы. Она оглянулась и увидела всадницу на темно-коричневой лошади, которая скользнула между голыми деревьями и растаяла. Поблизости была лошадиная ферма.
У дома стояла машина, шторы на окнах все были опущены. Андрей на работе, а девочки в школе. Она одна здесь.
Даша подошла к двери и нажала звонок. Ни звука. Она нажала еще раз и принялась нажимать не переставая, быстро, сильно и коротко. Никто не открыл ей, но какое-то еле слышное дыхание за дверью она уловила и поняла, что ее давно увидели из окна, давно услышали стук хлопнувшей дверцы, и давным-давно на той стороне порога стоит она , и Дашины короткие отчаянные звонки сыплются на ее голову, как град вперемежку с камнями.
— Открой мне, — сказала Даша.
Молчание.
— Чего ты боишься? Открой. Я хочу на тебя посмотреть.
Перед глазами вспыхнуло лицо Нины с дрожашим заплаканным ртом — каким оно было тогда, в кабинете психолога.
— Какая ты сволочь! — сказала Даша.
Всадница на коричневой лощади опять появилась внутри леса. Даше стало легче оттого, что рядом были эти двое: женщина и лошадь. Они помогали.
— Ты думаешь: он от тебя не ушел? Он от детей не ушел. И ты собираешься ими прикрыться? Какая ты сволочь.
За дверью молчали.
— Ты будешь дряхлеть, потеряешь рассудок. Достоинства ты никогда не имела. И он ненавидит тебя. Он боится.
Даша задрала голову. Но сверху сочилась небесная кровь, и там, наверху, нарывало, как прежде.
— Я бы к тебе не пришла. Я бы вообще забыла о том, что ты есть, если бы ты не задела… — Она не могла произнести вслух имени. — Ты мне напугала ребенка, и этого я не прощу.
Всадница выехала из леса, приблизилась к шоссе и остановилась. Лица ее Даша не видела, но лошадиная морда в пушистых ресницах — большая, прекрасная, кроткая — смотрела умно, безотрывно, и Даша хотела успеть досказать, пока она рядом.
— Давай я тебе погадаю, — задыхаясь, сказала она. — Ты будешь жить долго и плохо. Он будет с тобой, бесполезный и лживый. Не бойся: он мне сейчас тоже не нужен. Напрасно ты столько терпела. Напрасно! Вы все там боитесь друг друга, все лепитесь вместе, как кучка поганок. Ты думала, я тебе Нину прощу?
Имя вырвалось из горла само, Даша не успела его удержать. За дверью посыпалось что-то: она, наверное, облокотилась на столик, и все, что там было, упало со звоном.
— Ну, все. Я пошла, — прошептала Даша и оглянулась, чтобы увидеть всадницу и лошадь, но их больше не было. — Будь проклята, слышишь?
* * *Всех аспирантов известили, что профессор Трубецкой временно отстраняется от занятий, на его место приглашен профессор Кастор из Вермонта, и сразу после каникул начинается расследование дела.
Анжела Сазонофф лишилась чувств на экзамене по древнерусской литературе, чем напугала заведующую кафедрой Патрис Гамильтон настолько, что та долго не могла прийти в себя. Многим показалось, что и этот обморок был нужен только для того, чтобы вся интрига, и без того запутанная, скользкая и неприятная, стала еще неприятнее и запутаннее.
— Позерка, — пробормотал профессор Бергинсон в адрес похудевшей Сазонофф и щелкнул своими широкими пальцами.
Трубецкой почти все время проводил теперь в своем кабинете. Разные мысли приходили ему в голову. Одна из них была особенно настойчивой: он думал о том, что человек не виновен в своих поступках, поскольку вся жизнь является потоком сцепившихся независимо от воли живущего причин и следствий.
«Эдип не собирался убивать своего отца и спать с собственной матерью, это только кажется его действиями, а на самом деле все рождено внутри того, о чем не подозревает ни один из нас, — думал профессор Трубецкой, глядя, как удивленно опускается на землю снег, будто не уверенный в том, стоит ли ему опускаться, а может быть, проще всего, безопасней лежать в небесах, где родился и вырос. — Ведь я не желал боли Петре и мук этих Тате. Нисколько! Не я их причина. Я, как та бедная мышь, которая откусила кусок яблока».
Он вспомнил историю, которую любила рассказывать бабушка, желая доказать, что сердце будущего профессора редкое по своей доброте. Четырехлетний Трубецкой оставил на кухне большое красивое яблоко. Придя за ним утром на эту же кухню, он увидел, что от яблока откушен маленький, еле заметный кусочек.
— Опять у нас мыши! — вздохнула бабка.
К вечеру в мышеловке обнаружили неподвижное серенькое тельце с прижмуренным в ужасе взглядом. Мышь была совсем маленькой, с мизинец мальчика Трубецкого, и лежала на боку, задрав кверху крошечные лапки с розовыми ладонями. Вся она была как будто бы мраморной, серой с розовым, нисколько не страшной и даже могла показаться хорошенькой, если бы не это выражение ужаса на всем ее розовом, мертвом лице.
— Ну, вот и попалась! — сказал кто-то.
И тут же весь дом содрогнулся от плача. Кудрявый, похожий на ангела, как большинство кудрявых детей, Трубецкой давился слезами, сквозь которые он пытался объяснить, что именно так напугало его.
— Она ничего не хотела. Совсем! Она же голодная. Она откусила чуть-чуть! Оно ведь большое, и мне бы хватило!
Он все пытался объяснить, что мышь не только не съела всего яблока, но и откусила от него так, что почти незаметно. Главное, он хотел сказать, что яблока было много, а она откусила самую малость. За эту вот малость ее и убили.
Профессор Трубецкой женился на Петре тридцать лет назад. С тех пор утекло очень много воды. Он до сих пор помнил, как он любил ее первое время после свадьбы и как эта любовь стала угасать и засыхать в нем после смерти их первенца.
«Ах, боже мой, как она плакала!» — морщась и хватаясь за голову, думал профессор Трубецкой. — Она плакала все время. Дни и ночи. И я устал от этого. Мне хотелось жить, быть счастливым. А она все грустила и даже запрещала себе любую радость, и я начал отходить от нее, отодвигаться».
Он вспомнил, как росли Прасковья с Сашоной, и Петра боялась за них, жила в вечном страхе, что снова случится несчастье.
«Тогда я уже не любил ее как женщину. И мне все время было неуютно, потому что я как будто обманывал ее своей нелюбовью. Она, может быть, даже и чувствовала, что я не люблю ее, но никогда не спрашивала меня об этом. Потому что она очень чистая, доверчивая и целомудренная, и ей даже в голову не могло прийти, что я негодяй и развратник, что мне с нею скучно». — Он опять хватался за голову и тихо стонал в полутьме кабинета.
«А Тата? — спохватывался он. — Она тоже тихая. Но я почему-то люблю ее так, что мне безразлично, какая она. А только сидеть и смотреть на нее».
Он вспомнил, как Тата распускает волосы перед сном. Кровь бросилась ему в голову. Тата распускает волосы, и он разделяет их на тонкие пряди своими неуклюжими пальцами. А потом подносит ко рту поочередно — прядь за прядью — и долго целует.
«Мы стояли тогда с ней на Финском заливе, и она сказала, что лучше нам расстаться, пока мы любим друг друга, потому что так она больше не может. Ей казалось, что она отнимает меня у семьи и что потом за все это придет расплата. Я спросил у нее, какой расплаты она боится больше всего. И она сказала, что боится только одного: того, что мы разлюбим друг друга. А я ее не отпустил. И она родила Алечку. И таким образом я удержал ее для себя, потому что Алечке нужен отец и потому что без меня им не на что жить. Она никогда не выйдет замуж, потому что никогда не захочет, чтобы чужой человек мучил Алечку. И все мы повязаны: я, Петра, она, наши дети».
Мысли профессора Трубецкого принимали безнадежное направление.
«Совсем нету денег. А нужно на дачу. Хотя бы! Без дачи что в городе делать?»
Он вспоминал, что у Алечки случаются приступы астмы, что у Таты часто подскакивает давление, и дача на Финском заливе нужна им, как воздух, но и здесь, в Провиденсе, нужно позаботиться о том, чтобы Прасковья поступила в хороший колледж, и для этого держать репетиторов, а в январе придется поменять наконец всю отопительную систему в доме, поскольку она никуда не годится, а в гранте ему отказали, и все это просто ужасно.
О самом ужасном он старался не думать, потому что самым ужасным было не отсутствие денег, а то, что жизнь его явно зашла в тупик: эти две женщины, которых он одинаково сильно обманывал, и эти дети, которых он не имел возможности нормально вырастить, — они существовали одновременно, и каждая из женщин требовала его себе без остатка, и дети от Петры здесь, в Провиденсе, нуждались в нем так же, как рыженький Алечка там, в Петербурге.