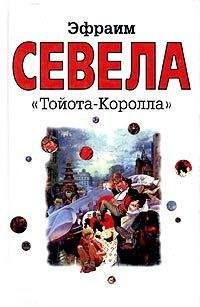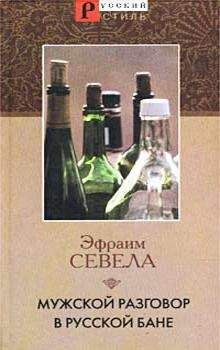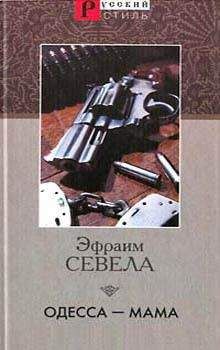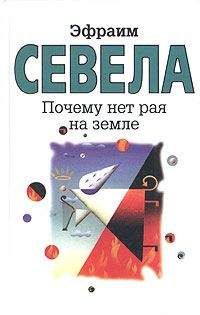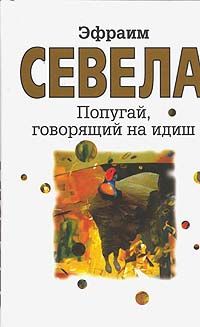Ирина Муравьева - Любовь фрау Клейст
Случилась, наверное, любовь. Которая ни от чего не зависит. И нужно смотреть на нее, как на птицу. Пускай и она доклюет свои зерна.
— Алеша! Ты есть с нами будешь?
Название птицы он так и не вспомнил.
— Да, есть я буду, — пробормотал он, задерживая взгляд на ее нарядной шелковой головке и таким образом избегая знакомого, всегда сильно действующего на него, почти нестерпимого взгляда жены. — Ведь я и не завтракал.
* * *С того утра, когда сиплым от напряжения голосом Даша перед закрытой дверью дома на Оливер-роуд выговорила все, что на самом-то деле нужно было выговорить лет пятнадцать назад, не дожидаясь того, что ребенок заболеет анорексией, прошло две недели.
Две недели были поглощены только Ниной, которая ни о чем не спрашивала больше, но стала заметно спокойнее.
Все это время Даша переживала смутный и злобный слегка холодок отчуждения от него и от того, что было связано с любовью к нему. Они не встречались, а разговоры по телефону — поскольку Даша не могла рассказать ему главного — казались ей замерзшими, покрытыми словно гусиною кожей, ненужными и неживыми. Она знала, что он с его этой сдержанною осторожностью никогда не будет ничего выяснять, потому что за истекшие пятнадцать лет то он, то она, а то оба вместе неоднократно переживали и отчуждение, и страх перед тем, как бежала их жизнь, и скуку, и все проявления злости.
Но утром двадцать третьего декабря, проводив Нину на каток и садясь в свою машину, чтобы ехать домой, она увидела, что он остановился на бензоколонке и входит внутрь. В первую секунду она хотела сделать то, что ей нужно было сделать, то есть сесть в машину и уехать, но ноги ее приросли к земле, а глаза, тут же заслезившиеся, как будто она долго резала лук и сок его брызнул ей прямо в зрачки, остановились на его затылке, повисли на нем и поволоклись сперва в маленькое помещение бензоколонки, где он покупал сигареты, потом, когда он повернулся и вышел, прилипли к лицу, размазались нежно по куртке, по вороту белой рубашки, по клетчатому шарфику, который она подарила ему в прошлом году, когда он приезжал в Миннеаполис. Наконец они поймали его глаза и встретились с ними.
Он перебежал через дорогу и остановился прямо перед ней, слегка запыхавшись от бега.
— Ну, что? — сказал он.
— Что? — сказала она.
— Мы что, так и будем молчать?
— А что говорить?
И тут же оба почувствовали, что говорить и в самом деле нечего, потому что знакомая сила уже повернула фитиль, и этот настырный, неспящий огонь, когда-то нащупавший их в темноте и так осветивший сперва только лица, потом плечи, руки, потом животы, потом всю их кровь изнутри, потом то , что их соединило, неспящий огонь никуда не ушел, он просто притих от холодного ветра.
26 апреля Вера Ольшанская — Даше Симоновой
Я видела ребенка. Гриша спросил, когда можно зайти за бумагами и вещами. Я сказала, что мне удобно завтра, часов в десять. Он спросил, нельзя ли попозже, хотя бы в двенадцать. Я из упрямства сказала, что нельзя. Он согласился на десять. Приехал вместе с девочкой. Она спала в какой-то розовой корзинке на заднем сиденье. Я увидела из окна, как он подъехал, и во мне все оборвалось. Он вылез с трудом, но уже без всяких костылей, очень худой и очень бледный. У него появилось что-то новое в лице, какой-то счастливый страх. Вынул из машины корзинку и очень осторожно то ли дунул внутрь, то ли подышал. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Мой муж подходит к нашему дому со своим ребенком. И это то, что случилось со мной без моей воли, без моего желания, как это случается во сне, когда ты видишь себя голой среди незнакомых людей и тебе нечем прикрыться, но ты ведешь себя так, как будто в этом нет ничего особенного, да и они — незнакомые люди — ведут себя так же, и ты просыпаешься мокрой от пота.
Я открыла дверь, и он с порога извинился, что пришлось взять девочку с собой, потому что она сейчас у врача, и не с кем было оставить. Поэтому он и попросил у меня вчера разрешения прийти попозже. Потом он сказал, что все соберет очень быстро и чтобы я не волновалась. Прошел сразу в свой бывший кабинет, и я пошла за ним, словно эта корзинка с молчащим ребенком меня заколдовала. Он поставил ее на диван и включил свой компьютер, а я посмотрела на девочку. Она очень крошечная.
Я хотела спросить, как ему удалось все так ловко устроить, то есть добиться того, чтобы ее вместе с ребенком впустили в Америку и чтобы у них была медицинская страховка, но вдруг вместо слов из меня полились рыдания, и я ничего не могла с собой поделать. Он испугался, попытался меня даже обнять, но я его оттолкнула.
Как он уехал, я не видела, не вышла из маминой комнаты. Кажется, он так ничего и не взял. Я его перепугала.
* * *Разбавленная голубизна неба впитала в себя самолет, и он полетел, одинокий, отважный, ничуть не похожий на птицу. Профессор Трубецкой закрыл глаза и привалился головой к спинке кресла. Он очень хотел бы заснуть. Ведь сон для чего существует?
О, не для того, чтобы было темно и билось испуганно нежное сердце, зовя хоть кого-нибудь — бабушку, маму — из той золотистой щели между детской и громкой гостиной, в которой хохочут и пьют из бокалов. Нет, это не сон, это страшное горе, когда говорят: «Спи! Ну, кому я сказала?»
И сразу уходят туда, где светло. Нет, это не сон.
А жизнь — это что? Разве ложь, немного клейкая от твоей слюны и немного горькая от твоего дыхания — ее нужно склеить и сделать нечистой, хотя ты ее извлекаешь из сердца, где свет, и из легких, где воздух, — о, разве она называется жизнью?
Но как бы остаться, где тихо, и снег за окном, и деревья под снегом? Где спишь и сжимаешь в руке ее руку, и она не вынет руки из твоих детских, ослабевших от сна пальцев, не бросит тебя в темноте, да ей и не нужно туда, где светло, ей нужно — где ты. А если ты вдруг почувствуешь, что ее рука с холодком обручального кольца и мизинцем, на котором ноготь похож на ромбик, нерешительно выползает из твоих пальцев, ты сразу же сможешь заплакать, и все к тебе тут же вернется.
Тебе будут петь, и дышать, и баюкать.
Молодец ты будешь с виду,
И казак душой!
Про-о-овожать тебя я выйду,
Ты-и-и махнешь рукой!
И это вот — жизнь .
А когда придется все же вылезти из детской кровати, потому что она перестанет вмещать твое тело, придется уйти, хотя там тепло — только там — и не страшно, рука с ноготком этим, ромбиком, сразу махнет тебе вслед, обещание сбудется.
Постойте. Она умерла, она под землею — в земле, — там, где черви. Где черви? А, черви! Ну, это неважно. Какая вам разница: черви — не черви? Она ведь вам машет. Глядите, глядите! И снег, как всегда, устилает дорогу, и снова деревья сияют под снегом. А дверь в эту комнату, где все смеются, опять приоткрылась. Глядите, глядите!
Постойте, мне трудно дышать.
Это жизнь.
Примечания
1
Моя мама! (нем.)
2
Ну, вот. Посмотрите. (англ.)
3
Что это, Патрис? (англ.)
4
Все получили копии! (англ.)
5
Прочитайте. (англ.)
6
Сын, Мать и Матка. (англ.)
7
Что случилось? Ты болен? Что с тобой? (англ.)
8
Земля, дорогая, горит под ногами! (нем.)
9
Моя дорогая (нем .).
10
Глубоко уважаемый господин доктор (нем .).
11
О, здесь вы! (англ .)
12
Бог мой! Что же это происходит? (англ.)
13
Мне реально нравится это, я люблю это (англ .).
14
Мой любимый Бальтрум! (нем .)
15
Дитя прелестное и ужасное (франц.).