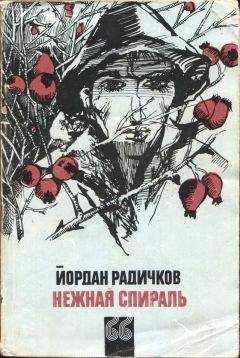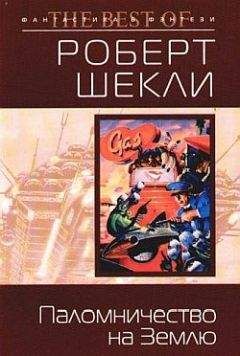Йордан Радичков - Избранное
Когда я сгрузил кукурузные листья, жена спрашивает: «А где ж бурка и кувшин?» — «Эх, да я их, верно, в поле забыл! Как же эта я так?» — «Ты б лучше голову забыл!» — запричитала жена. «Ладно тебе, — говорю, — не за горами небось, вернусь — погляжу». Иду я назад в тумане, а чего идти, когда я и так все знаю. Шел я, шел, потом присел в поле у стога сена, взял в рот сухую травинку и задумался. Парнишка, стало быть, побродит по лесам, нарвется на жандармов, те схватят его и проведут по деревне как он есть, в бурке. Вся деревня увидит, что бурка — моя. Если его проведут по соседней деревне, и там мою бурку узнают, портной первый узнает, он помнит, как полосы подгонял. Как я буду оправдываться, коли спросят, Каким образом моя бурка у парнишки оказалась? Сказать, что я ее потерял, а парнишка нашел — никто не поверит. Они бьют и, что им ни скажешь, ничему не верят. Сказать, что парнишка у меня бурку силой отнял, так тут же спросят: «Что же ты сразу не пришел и не сказал? Укрывательством занимаешься!» И опять-таки бить будут.
Посидел я у стога и пошел домой. Жене говорю, что, верно, обронил бурку и кувшин по дороге, а кто-нибудь подобрал. «Ты б лучше голову обронил по дороге! — разоряется жена. — С двух овец шерсти напряла я для этой бурки!» Сказала б она мне другой раз что-нибудь этакое, я б замахнулся, и она б у меня, благо вся ссохлась, на крышу б отлетела, а сейчас знаю, что виноват, отдуваюсь только и молчу. До вечера отдувался, всю ночь проохал, а наутро рассказал жене все как есть. «Ой, беда, — говорит жена, — пропали мы теперь!» И тоже заохала.
Такие вот дела.
Несколько дней прошло, Два Аистенка меня спрашивает: «Слыхал?» — «Про что?» — «Да какая история в Белимеле вышла». Я ни про чего не слыхал, и Два Аистенка рассказал мне, что в Белимел заявились жандармы и поручик пошел в один дом побогаче, где для него угощенье собрали. Заходит в дом и видит, что под кроватью сапог лежит неестественно. «Как это неестественно?» — спрашиваю я у Двух Аистят. «А так, что лежит на голенище носком вверх. Раз он так лежит, значит, он на ногу надет и, значит, под кроватью — человек», — объясняет мне Два Аистенка. И поручик как саданет из автомата — та-та-та — по сапогу, а сапог подпрыгнул, и человек из-под кровати — тах-тах! — по поручику. Поручик вылетел в дверь, тот — в окно, поднялась стрельба, да темно уже, видно плохо. Жандармы гонятся за человеком, тот бежит по улице, потом выскочил на открытое место, кусты только какие-то там были, бросился промеж них, да так и повис на одном кусте. Те постреляли, постреляли, человек висит на кусте, больше не шевелится, а как подошли поближе, смотрят, человека-то и нет, одна бурка (услышал я про бурку, и что-то оборвалось у меня внутри) на кусте болтается, в решето превратилась. Человек, когда убегал, кинул свою бурку на куст и сбил жандармов с толку. Поручик от этого дела в ярость пришел, вернулся со всеми жандармами в дом, арестовал хозяина, и той же ночью закопали его в землю живьем, а дом облили керосином и подожгли — за то, что хозяин был связан с партизанами. «Откуда ты это знаешь?» — спрашиваю я Двух Аистят. «От зятя, — говорит он мне, — зять вчера вечером пришел и рассказал всю историю. Тот, закопанный, еще жив, говорит, слышно, как он стонет под землей».
У зятя Двух Аистят передвижной котел для варки сливовицы, он с ним села объезжает, так, когда проезжал через Белимел, узнал про все это. Спросить если у зятя Двух Аистят, какая была та бурка, — нет, нельзя, он усомниться может, с чего это я спрашиваю. Пробую я вспомнить, парнишка мой в сапогах был или без сапог. И не могу вспомнить, хоть ты что! Стараюсь, стараюсь и самое большее вспоминаю его до пояса, как он стоит по пояс в тумане, а с пояса граната свисает. Ниже никак не могу вспомнить, в чем он был. Потом припоминаю, как я его спину увидел, когда он к лесу шел, но и со спины не видно, в сапогах он или без сапог, потому как перед глазами у меня одна бурка мельтешит, в белую и сивую полосу. Белые полосы первые пропали в тумане, а за ними — и сивые.
Ну ладно, но если это был тот самый парнишка и если в Белимеле на кусте висит моя бурка, там наверняка найдется кто-нибудь, кто скажет, чья это одежа. Тогда жандармы загребут меня, а как загребут… Что-то начинает меня глодать изнутри, в голове жар, не могу усидеть на месте. Пойду-ка погляжу, что за бурка в Белимеле. А чтоб никто не догадался, что я из-за бурки, насыпаю в мешок кукурузы, запрягаю буйволов и через Керкезский лес прямиком на белимелскую мельницу. По дороге встречаются мне двое конных. «Стой! — кричат. — Куда, дядя, с мешком собрался?» — «На мельницу», — говорю. «До мельницы ли теперь, дядя? — говорят мне конные. — Не видишь разве, что земля под ногами горит!» — «Горит-то горит, — отвечаю, — но скотина у нас, кормить ее надо. То, другое требуется, без мельницы никак не обойтись». Конные едут своей дорогой, я веду буйволов дальше и все думаю про этот неестественный сапог и удивляюсь, как же это поручик догадался, что сапог лежит под кроватью неестественно. Я б увидел, что лежит сапог носком вверх, ни за что б не сообразил, что он лежит неестественно, а поручик сообразил и тут же — тра-та-та — из автомата. Но и сапог тут же вскочил и тоже начал по поручику палить. Пальба на всю округу, а как наглядишь, никого и не убили, только что бурку продырявили.
Чем ближе я к Белимелу, тем муторней у меня на душе, а перед глазами все этот неестественный сапог торчит, носком вверх. На мельнице помольщиками и не пахнет, мельник отбивает жернов. Вода гудит, но постукиванья коника не слышно. «Не мелешь?» — спрашиваю у мельника. «Что молоть-то, — говорит, — народ оробел, у меня мельницу паутиной затянуло. Никто не едет молоть».
Высыпает он мою кукурузу в ковш, пускает воду, коник начинает стучать, а я все смотрю на Белимел (деревня пониже мельницы). Со стороны Белимела тянет гарью, и я спрашиваю мельника про то дело. Он мне все рассказал, и все вышло точь-в-точь, как мне Два Аистенка рассказывал. А гарью тянет, так ото от дома партизанского связного. Мельник сказал, что сам он еще живой и что из-под земли слышно, как он стонет, но, чтоб это услыхать, надо подойти поближе, да не всякий может — дурно становится. Часовые там стоят, охраняют, и народ старается это место стороной обходить. Я про бурку спросил — бурка, говорит, за церковью выставлена. Если я спущусь в деревню, я ее увижу. «Я, пожалуй, и правда спущусь, табачку куплю», — говорю я мельнику. А он мне советует не крутить цигарку из газеты, в деревне полно акцизных, как увидят, что кто-нибудь скручивает цигарку из газеты, так тут же и штраф. Курить положено табак с государственным ярлыком, а у кого табак не фабричный, штрафуют безо всяких разговоров.
Так я и сделал: купил в деревне фабричных сигарет и пошел к церкви ни жив ни мертв. Гляжу — там народ толпится, ну и я к народу, хочу побыстрей, а иду еле-еле, ноги к земле приклеиваются, оторвать не могу, все равно как жернова к ним привязаны. Потом в ушах зашумело, ну, думаю, плохо дело. Коли окажется, что бурка моя, не знаю, удержусь ли на ногах, не брякнусь ли там прямо посреди народа. Да, но уж раз пошел, назад тоже не повернешь, вот я и передвигаю ноги и стараюсь на себя бодрый вид напустить, чтоб никто ни в чем меня не заподозрил. Подхожу к толпе, но толпы не вижу, потому как глаза мои высматривают, что там за церковью откроется. Высматриваю, высматриваю и вдруг вижу: на кусте — бурка.
Бурка была вся сивая, потрепанная, одна пола порвана. Жернова свалились у меня с ног, какой-то мужичок рядом со мной курит, я прошу у него прикурить, а он мне говорит: «Да у тебя, дядя, цигарка-то зажженная!» Смотрю — и правда, цигарка у меня зажженная и дымится. До того я, значит, был не в себе, что не заметил, как у меня цигарка дымится.
На этот раз пронесло, думаю, и мне понемногу легче делается. По ту сторону церкви, на холме, часовые стоят — там, где человек живьем закопан, но туда у меня не хватает духу идти, услышать, как он стонет из-под земли. Возвращаюсь я на мельницу, кукуруза моя уже смолота, вскидываю мешок на плечо — перышком он мне показался, — кладу на телегу, запрягаю буйволов и даже насвистываю потихоньку. Мельник смотрит на меня вроде испуганно, но я на него и внимания не обращаю. Мельница, запах гари, часовые — все остается у меня за спиной.
Только бурка стоит перед глазами, но не моя, а та, что на кусте, сивая, потрепанная, с рваной полой. А потом и свою бурку увидел, новехонькую, в сивую и белую полоску. И обе бурки вместе двинулись по дороге. Так и идем: впереди бурки, за ними буйволы, а я позади всех. На дороге — ни живой души. Обе бурки шли рядом до самого Керкезского леса. Когда же мы вошли в лес, одна бурка свернула в одну сторону, другая — в другую. Моя исчезла среди деревьев, а сивая зацепилась за куст и осталась на нем висеть. Я пырнул буйволов: «А ну, шевелись!» — и мы заторопились домой, в деревню.
С этого дня я стал обходить села Берковской околии, всякие дела себе придумывал, ходил и расспрашивал, не поймали ли где в лесу человека, не расстреляли ли кого. В одно село привезли на площадь троих убитых, я тут же придумал себе дело в этом селе — отправился к бочару кадушку заказывать — и видел всех троих. Все трое были в одних рубахах. Потом услышал, что в другое село привезли молодого парнишку, и его тоже ходил смотреть, парнишка оказался гимназистом, в старой шинельке и в одних носках. Жандармы, как убьют кого-нибудь, кладут на площади и заставляют народ проходить мимо, опознавать. Народ проходит молча, смотрит, но не опознает. Я тоже прохожу и смотрю, но не для того, чтобы человека опознать, а на тот случай, что вдруг я свою бурку увижу. Еле иду, на сердце камень, но как только бурки не оказывается, так мне сразу легчает. В сущий кошмар превратилось для меня это дело. Чтобы не навлекать на себя подозрений тем, что я все шатаюсь по селам, пришло мне в голову заняться перекупкой коз. Два Аистенка, как узнал, говорит мне: «И я с тобой!» Отправились мы по селам, я куплю в деревне козу за двести, гоню в город и там продаю за двести. Два Аистенка несколько раз со мной ходил, и он так же: купит за двести и продаст в городе за двести. Однажды он и говорит: «Нет, Лазар, больше я этим не занимаюсь! Какая ж тут выгода — купить за двести и продать за двести! Никакого барыша!» — «В торговле всегда так, — говорю ему, — не знаешь, на чем повезет!»