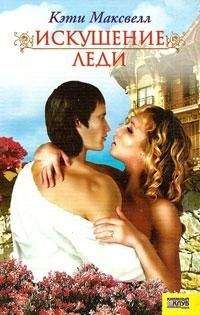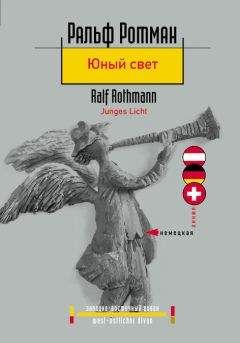Алан Ислер - Жизнь и искушение отца Мюзика
К тому времени, когда сэр Персиваль приобрел «Агаду», ей было уже гораздо больше ста лет. Глава общины ребе Ройвен Мейербер заказал ее в начале семнадцатого века Гершему Шаеру, пражскому художнику. То, что Фолш видел мальчиком и что теперь увидел снова, когда сэр Персиваль вернулся из своего путешествия, был рисунок, изображающий деревянную синагогу в Дунахарасти и крошечные фигурки людей, направляющихся к ней через площадь. Рисунок помещался на титульном листе в центре под словами תנדת תל תםפ, «Пасхальная Агада». Титул был также украшен готическим декоративным обрамлением с фигурами Адама и Евы, Самсона, держащего на своих плечах городские ворота Газы, и Юдифи с головой Олоферна. Одно из самых прекрасных первопечатных изданий иллюстрированной «Агады» дошло до наших дней в этом единственном экземпляре, и оно хранится в Бил-Холле.
Можно себе представить, что почувствовал Фолш, увидев книгу. Уютно устроившись вместе со своим покровителем в изящной овальной библиотеке со стаканом рейнвейна с содовой, поглядывая из окна на башенки дворца Ладлоу, едва видные за окультуренными до мыслимого совершенства землями поместья, Фолш, должно быть, неожиданно почувствовал себя перенесшимся назад, в давно забытое детство. Возможно, книга напомнила ему об утраченной чистоте, о непреклонной вере его народа, о тепле семейного очага, о стряпне его матери, о ее лице, залитом таинственным светом, когда она зажигала свечи, встречая субботу. Как эта «Агада» попала в отдаленный монастырь в Карпатах? Что ее появление там могло поведать о судьбе семьи Мейербера в Дунахарасти? То, что она снова возникла в жизни Фолша, поразило его и даровало безотлагательную цель. Чтобы книга, рассуждал Фолш, ушла из еврейских рук, должна была — и это несомненно — пролиться еврейская кровь. Что ж, он освободит «Агаду», вырвет ее из запятнанных кровью лап goyim. Почерком, неразборчивость которого свидетельствует о сильнейшем душевном волнении, Фолш записывает, что твердо намерен вернуть эту книгу евреям — честным путем или бесчестным. С готовностью и страстью он берется за эту задачу, которую почитает своим «святым долгом».
Дальнейшее описание событий вполне можно назвать «воображаемой реконструкцией», хотя она целиком основана на письменных свидетельствах — записях Фолша и случайных, разрозненных заметках, найденных мною среди бумаг сэра Персиваля.
Фолш начал с хитрости. Повстречав однажды далеко за полдень той же весной сэра Персиваля, не совсем твердой походкой выходившего из дворца наслаждений Пэг Сампэ на Пэй-Лейн, Фолш дружески приветствовал своего покровителя:
— Ого, сэр Персиваль! Как поживаете? А как поживает миледи? Прошу вас, передайте ей мои самые сердечные пожелания здоровья и благополучия. Ну, как вы, дорогой сэр? Надеюсь, все в порядке? — Я представляю себе Фолша, многозначительно кивающего на полированную дверь заведения Пэг Сампэ. — Готов ручаться, что нет никаких рецидивов прежних проблем.
— Нет, благодарю вас. А вы, сэр, как вы поживаете? — Сэра Персиваля слегка качнуло, и Фолш поддержал его под локоток. — Проклятье, чертовы булыжники! — ругнулся сэр Персиваль. — Прогуляетесь со мной? Мой конь остался у Джорджа.
— А я думал, вы его оставили у Пэг Сампэ. — При этом Фолш, скорее всего, подмигнул.
Сэр Персиваль рассмеялся:
— Ах вы, шалун! Мой конь норовист.
— Медон, разве он норовистый? — Можно подумать, Фолш умел отличать одну лошадь от другой.
— Нет, это Амикус. Медон натер холку. — Сэр Персиваль всех своих лошадей называл в честь знаменитых кентавров.
— Вот, значит, как, — участливо заметил Фолш, хотя слова «натер холку» он слышал впервые и не знал, что они означают. — Пусть ваш конюх натрет немного моркови, превратив ее в мягкую кашицу, и потом, протерев через сито в ведро Медона и смешав с водой, даст ему выпить. Не сомневаюсь, он быстро поправится. Морковь если не поможет, то в любом случае не повредит.
Они повернули за угол на Олд-стрит.
— «Вы тем путем идите, — сказал сэр Персиваль, — а я — этим»[153].
Однако Фолш был не так хорошо знаком с творчеством Барда и не понял аллюзии. Скоро он очень хорошо узнает его. Но продолжим:
— Не хотите ли выпить чаю в моем скромном жилище, сэр Персиваль? Вы окажете мне большую честь.
— Почему бы и нет, — ответил сэр Персиваль. — Премного вам обязан, я не так твердо стою на ногах, как хотелось бы. — Он рыгнул и нервно помахал кружевным платочком у себя перед носом. — А ваша прелестная экономка, Полли, у нее найдутся для меня горячие лепешки со смородиной? И ее крыжовенный джем?
— Будьте уверены, все найдется.
— Ах, прелестная Полли! — похотливо произнес сэр Персиваль.
Полли Плам[154] исполнилось в то время семнадцать. У нее были распутные глаза, тонкая талия и торчащие груди.
— Теперь ее зовут Сара, — сообщил Фолш. — Я обратил ее в иудаизм, как и всех в моем доме. Но ее лепешки и джем остались прежними.
— А-а-а… — Разочарование в голосе сэра Персиваля было очевидным. Сделавшись иудейкой, Полли стала для него чем-то вроде монахини.
Устроив сэра Персиваля в уютной задней комнате, выходящей в сад, и подав ему освежающие напитки и закуски, Фолш начал разговор на тему, совершенно завладевшую им, но начал с полной беспечностью, словно делясь праздной мыслью, рассеянно бродившей в его голове и лишь случайно попавшей на кончик языка:
— Эта древнееврейская книга, которую вы привезли из… где это было? Монастырь в Карпатах?
— Ватра-Нимт. Самый лучший крыжовенный джем во всем графстве. — Сэр Персиваль отправил в рот маленький кусочек лепешки с джемом и похлопал по своему животу липкими пальцами. — Лучше любого, который я едал в Лондоне, не говоря уже о Бил-Холле. Так что насчет книги?
— Я пошлю с Сарой — бывшей Полли — побольше джема в Бил-Холл. Нет, нет, я настаиваю, для меня это удовольствие. Книга недостойна такой выдающейся библиотеки, как ваша.
— Это почему же?
— Ваше приобретение — нечто вроде поваренной книги, ее место на кухне, да и там она была бы полезна лишь в том случае, если бы ваш повар умел читать на иврите. Мое пренебрежение вызвано ее заурядностью. Европа наводнена этой книгой. На континенте ее можно увидеть в любом еврейском доме.
— В колофоне[155] на моем экземпляре стоит тысяча шестьсот девятый год. Кроме того, это не только старинная, но еще и очень красивая книга.
— Да что вы, сэр Персиваль, — небрежно рассмеялся Фолш, — насколько мне известно, она была отпечатана не более двенадцати лет назад. У еврейских печатников при переизданиях книги принято выставлять для своих читателей год первого издания. Я думал, вы знаете. Это характерно для евреев. Не обращайте внимания на колофон. — И он снова рассмеялся. Выдумки легко слетали с его языка.
— Но книга выглядит очень старинной. Ей-богу, она должна быть старинной!
Фолш пожал плечами и улыбнулся.
— Позвольте мне помочь вам выйти из затруднения, сэр Персиваль. Эта книга может пригодиться в моем домашнем хозяйстве, поскольку я обучаю Сару ивриту. Бедное дитя, она выросла в крайнем невежестве и не умеет читать по-английски.
— Иллюстрации очень красивые.
— Ну, скажем, один шиллинг? Нет, два! Я дам вам за нее флорин!
Теперь настал черед рассмеяться сэру Персивалю. Он замахал рукой.
— Вы много запрашиваете, сэр Персиваль. Хорошо, я предлагаю одну гинею, и это последняя цена.
— Я ничего не запрашиваю, Фолш. Проклятье, я не лавочник! Вы забываетесь! — В голосе сэра Персиваля зазвучал металл и изрядная доля отвращения. Он поднялся, смахнув крошки с жилета.
— Прошу вас, садитесь, — встревожился, вскакивая, Фолш. — Я пошутил. Простите меня. Послушайте, сейчас придет Сара, принесет свежий чай, горячие лепешки и еще крыжовенного джема, провалиться мне на этом месте.
И она вошла с тяжелым подносом и заменила блюда с остатками еды новыми, наполненными до краев. Она и вправду была прелестна. Сэр Персиваль имел все основания восхищаться ею. Иудейка Сара сохранила озорной взгляд и кокетливую порывистость движений некогда неуловимой для баронета методистки Полли. При виде гостя у нее появились ямочки на щеках, она присела перед ним в реверансе. Сэр Персиваль уселся на место.
— Хм, — произнес он.
Фолш вздохнул с облегчением.
Сара вышла из комнаты, унося поднос и опять пробудив вожделение в сэре Персивале.
— Так вы говорите, теперь она иудейка?
— Да, сэр.
— Так, так.
Этот натурфилософ мог воображать Сару монахиней или — сэр Персиваль был поклонником классического стиля — почти весталкой, и все это только щекотало в нем нерв сексуального упрямства. Оказавшись запретным плодом, она стала еще желанней. И наверняка уже проникла в царство его тайных фантазий: «Ах, если бы я вдруг встретил ее у Пэг Сампэ!» И тому подобное.