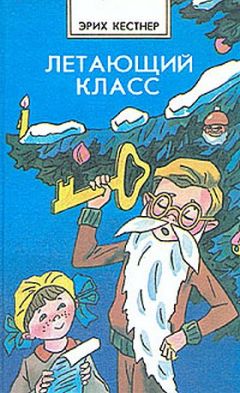Эрих Хакль - Две повести о любви
— Она вас очень любила, говорит он. Именно поэтому она редко говорила о вас. Ему было неудобно просить ее рассказывать о вас больше. Он не хотел причинять ей боль.
— Из-за другого? Потому что она была несчастлива с ним?
— Да, из-за Суареса.
Марга и Суарес совершенно не подходили друг другу. Я себя все время спрашивала, зачем она вообще с ним связалась. Она была убеждена, что не справилась бы одна. Как мне было прокормить себя и ребенка, оправдывалась она. Очень просто, делая то же, что ты делала до того. Работать. Разве ты и сейчас не вкалываешь по восемь-девять часов в день? Ну так вот. Вкалывать и посвящать себя ребенку. Никто не вмешивается в твою жизнь. Никто тебе ничего не приказывает. Ты независима. Ты великолепно справилась бы сама. Но, очевидно, ей был нужен рядом мужик. В этом плане она точная копия нашей матери: без мужчины в доме мир перевернется. Для меня это никогда не было проблемой. А она: мальчику нужен отец. Я подозревала, чем это кончится.
В том, что они потом все-таки поженились, была в конечном итоге моя вина. Я была против. Но уж коли на то пошло, я за ясные отношения. Почувствовав, что она об этом мечтает, я задала этому Суаресу жару. Я ему сказала, даю тебе два года. Если ты за это время не женишься на ней, я снова приеду и вышвырну тебя с треском, а если не уйдешь добровольно, позову брата. Через два дня я уехала. И он быстренько женился на ней. Она бы никогда не посмела попросить его об этом. Потом она прислала мне их свадебное фото. Я бы на ее месте выставила его на улицу, но Марга была убеждена, что без мужа никак нельзя, это придает авторитет. Одинокой женщине в жизни не пробиться. Чушь несусветная! Он ее использовал. Я ее просто не понимала.
Потом, когда она уже заболела, он здорово заботился о ней, надо отдать ему должное. Самоотверженно ухаживал. На это он сгодился. А так — тьфу!
Мать по своей сути была типичной испанкой — очень эмоциональной, склонной к излишнему драматизму, вплоть до трагизма. Она часто плакала. И внушила мне комплекс вины. В начале пятидесятых у нее появились все симптомы беременности; она не была беременна, но плохо себя чувствовала, стала прибавлять в весе, ее вдруг потянуло на соленые огурцы, потом на крутые яйца. При этом она никак не могла забеременеть от Пако, отчим был бесплоден. Он целыми днями мучился головной болью, страдал от депрессии, наверное, после Маутхаузена. Коллеги неплохо относились к нему, в общении с другими он мог быть очень милым и предупредительным. Но дома он иногда был способен не проронить ни слова целую неделю. Однажды он дал мне пощечину, щека весь день была распухшей. Когда я уже был взрослым, мать спросила меня, не развестись ли ей с ним. Я отсоветовал. Это было ошибкой. Но мне стало его жалко. Дело в том, что у него перед глазами всегда стоял образ его отца, бросившего жену и детей и эмигрировавшего во Францию, где он в старости влачил жалкое одинокое существование в каком-то подвале. Пако боялся, что его ждет такая же судьба. Поэтому и был против того, чтобы мать рассталась с ним. Кроме того, меня напугала ее сестра Марина, однажды приехавшая к нам. У нее были мозги набекрень, она всегда все знала лучше всех, со всеми мужчинами ругалась. Мне тогда Пако показался меньшим злом.
Я никогда не видела, чтобы он бил мальчика. В этом плане Суарес был в полном порядке. Но, может, для ребенка даже лучше получить иногда подзатыльник, чтобы потом его обняли и поцеловали, чем постоянно ровное, корректное обращение, без любви, без страсти. Свобода для Суареса была недопустимой вещью. Существовал четкий распорядок дня, который ни при каких обстоятельствах не нарушался. В Кульере, например, где они потом снимали квартиру на время летнего отдыха, ровно в пять они отправлялись на прогулку, это в августе-то, на Средиземном море, в адскую жару. В семь надо было быть дома, в половине девятого на столе обязан был стоять ужин, а в десять все уже лежали в постелях. Или как-то раз мы ездили вместе в отпуск, в Андайский кемпинг в Стране Басков. Мы с сестрой взяли да и махнули через испанскую границу в Сан-Себастьян. Поели в порту креветок Не спросясь его! Он пришел в ярость, на свой манер: ни слова не сказал нам. Даже не взглянул на нас. Целый месяц заставлял Маргу дергаться. Его счастье, что он не на мне был женат. Я бы ему той же монетой отплатила. Я бы ему сказала: то, что ты вытворяешь, дело нехитрое, я так тоже могу. И тоже бы с ним не разговаривала. А потом взяла бы и своими руками оттащила его постель в чулан и сказала бы: вот тебе подходящее местечко, тут и спи.
В четырнадцать лет я заболел туберкулезом. Врачи были в полной растерянности: они не могли установить причину внезапной вспышки болезни. Сегодня мне ясно, что это была болезнь отторжения, бунт против мира взрослых, державших меня в узде. Но осознанно я им никогда не противился. Их политические идеалы стали и моими. Я всегда понимал, что надо продолжать борьбу, даже если под конец ты останешься один и, возможно, ни с чем.
Наверное, у меня и раньше было что-то с легкими. Так, например, в восемь лет меня послали на лето в Норвегию, в рамках акции помощи восьмидесяти детям испанских беженцев. Семья, принявшая меня, супруги Ланд, жили на хуторе, у самого леса, ближайшее хозяйство располагалось далеко. Там было в избытке молока, масла и мяса. Мне разрешалось выгонять коров на пастбище и купаться в озере. Неподалеку был трамплин, а посреди леса стояла хижина, где госпожа Ланд пряла из ниток шерсть. Я выучил несколько фраз по-норвежски. Еще я научился там кататься на велосипеде, на таком большом и тяжелом. Однажды они страшно испугались, когда я не вернулся к ужину, и поехали искать меня на упряжке лошадей. Это было как в сказке — то чудесное жаркое лето, которое я провел там. Ланды, дети которых уже выросли, с удовольствием бы усыновили меня. Они писали нам потом года два, не меньше. Мои родители наверняка ответили им от силы один раз, и контакт постепенно оборвался.
Думаю, виной всему был мой отчим. Пако был человеком, который быстро завязывает контакты и так же быстро обрывает их. Я вспоминаю, что мы становились все более нелюдимыми, потому что он постепенно разругался со всеми знакомыми. Мать очень страдала от этого, он даже запрещал ей встречаться в Париже с друзьями. Не ходить в гости, не отвечать на письма, не подавать признаков жизни. Я, к сожалению, тоже стал таким.
В шкатулке моего деда я нашел связку писем, курсировавших между Веной и Парижем, вместе с копиями. На первых еще стоит штемпель союзников. Очевидно, он хотел взять опекунство над моим сводным братом, но его невестка считала, что в этом нет нужды. Вначале она еще пишет по-немецки, что-то вроде фонетической транскрипции, и Эдуард нацарапал пару фраз, потом связь, видимо, обрывается на годы, так как один раз дед сетует, что писал им каждые два месяца и ни разу не получил ответа.
Более поздние письма из Парижа, от второй жены моего отца и моего сводного брата, уже написаны по-испански. У деда был знакомый, женатый на испанке, она переводила ему письма. Речь шла об отдыхе для сводного брата в Закопане, о котором дед ходатайствовал в Союзе узников концлагерей. Я даже не знаю, вышло ли что-нибудь из этого. Сначала заявка была подана слишком поздно, на следующий год женщине не дали отпуск на предусмотренный срок, в третий раз Эдуарду нужно было корпеть над экзаменами на аттестат зрелости. Море писем, море усилий, море впустую потраченных средств. В одном из писем вторая жена отца опечалена тем, что Эди не хочет больше говорить по-немецки, так как мальчишки во Франции обзывают его наци, в другом сообщает с гордостью, что он хорошо учится, потом смущенно признается, что сильно растолстела, потом — что подумывает о новом браке. Дедушка не возражал, напротив, даже ободрил ее. Переписка носит довольно сердечный характер с обеих сторон. Но постепенно сходит на нет.
В семнадцать или восемнадцать лет я побывал в Вене. Я тогда колесил по всей Европе и воспользовался случаем, чтобы навестить деда. Он написал, что болен и скоро умрет и хотел бы еще раз повидаться со мной. Вена показалась мне очень буржуазной, наводненной памятниками, спрятанной за фешенебельными фасадами. Немного похожа на Женеву. Я представлял себе город более красивым, более живым. Помню, я забрел в какой-то парк там играл оркестр, я немного послушал. Рестораны были не слишком дорогие, я мог позволить себе заглянуть туда, впрочем, еда повсюду была одинаковая — венский шницель.
На одной фотографии, которую дедушка послал нам вскоре после войны, он был очень толстый. Когда я навестил его в Вене, он опять был таким же худым, каким сохранился в моей памяти. Он донашивал костюмы времен своей молодости. Мы едва понимали друг друга, поскольку я давно забыл немецкий. Кажется, он занимал какую-то должность в городском управлении, был членом совета городской общины или что-то в этом роде. Его жена погадала мне на картах. Сказала, что у меня будут две женщины, блондинка и брюнетка.