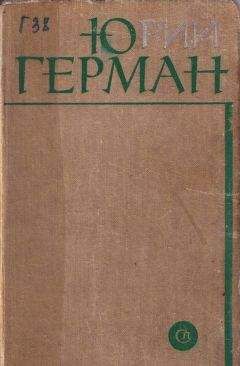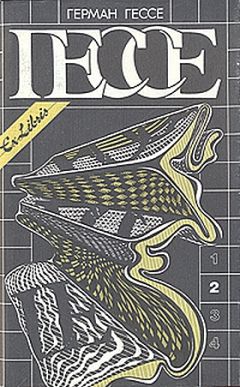Юрий Додолев - Биография
Возвращаться в палату не хотелось. Я продолжал гулять, хотя воздух уже посырел и стало прохладно. Кинул взгляд на веранду и обмер — там стояла сероглазая девушка. Чувствуя, как колотится сердце, негромко позвал ее. Вопреки ожиданию, девушка сошла с веранды, остановилась в двух шагах от меня. Запинаясь, бормоча извинения, я начал рассказывать о том, как впервые увидел ее, как думал о ней, отчаиваясь и надеясь. Так я познакомился с Дашей.
Мы договорились встретиться на следующий день. Почти все ходячие больные прятали под матрацами рубашки и брюки, а обувь хранилась внизу — в шкафчиках для верхней одежды. Днем с территории госпиталя можно было выйти беспрепятственно: Никанорыч и Лизка лишь провожали нас взглядами; для ночных похождений служила дыра в изгороди — раздвинутые металлические прутья.
В голове было одно — свидание. Захотелось сделать Даше приятное, и я, поразмыслив, решил взять билеты в театр или на какой-нибудь концерт: по разрешению лечащего врача некоторым больным иногда позволяли съездить домой. Выдумать предлог не составляло труда, и утром Вера Ивановна позволила мне отлучиться на три часа. Я поехал в центр, взял билеты на спектакль Ленинградского театра миниатюр, или, как говорили тогда, на Райкина. Усыпляя бдительность сестер и нянечек, старался вести себя тише воды, ниже травы. Василий Васильевич, удивленно покашливая, кидал на меня взгляды, Панюхин утверждал, что я сияю, будто именинник, Валентин Петрович с любопытством спросил:
— По облигации выиграл?
Я рассказал однопалатникам о предстоявшем свидании. Валентин Петрович одобрительно кивнул.
— Шуры-муры — самое лучшее лекарство!
— Застукают — тогда почешешься, — проворчал Василий Васильевич.
Панюхин ударился в воспоминания. В госпитале, где он лежал с крупозным воспалением легких, ребята, по его словам, давали дрозда. Мы были непосредственны, наивны, нам очень хотелось выглядеть настоящими мужчинами. И видимо, поэтому мы часто выдавали желаемое за действительное.
Воспоминания Панюхина расшевелили и Андрея Павловича. Оторвавшись от книги, он вдруг сказал, что только мужчины безрассудны в любви, женщинами всегда руководит расчет. Василий Васильевич и Валентин Петрович в один голос возразили ему. В ответ Рябинин усмехнулся, и я подумал, что в его жизни, должно быть, тоже была неудачная любовь.
Вечер еще не наступил, но день уже кончился — был тот промежуток в сутках, который длится, может быть, две, может быть, три минуты; он почти незаметен, однако все живое ощущает его, и только человек, поглощенный своими заботами, не замечает, как неуловимо изменяется окраска неба, смолкают на несколько секунд птицы, стихает ветер, разжижаются тени. Природа переходит из одного состояния а другое без резкого скачка, без всего того, что может удивить, испугать, обрадовать или разочаровать. Эти изменения способна уловить лишь душа, да и то только в те моменты, когда человек, созерцая окружающее, ждет счастья, которое может оказаться мгновенным, а может продолжаться месяц, даже годы, но никогда не станет судьбой: в предначертанный срок жизни каждый должен испытать и горе, и боль, и крушение всех надежд, чтобы снова воспрянуть и познать счастье, однако счастье уже другое, совсем не похожее на то, что будет хранить память, вызывая мучительную или сладостную боль, всегда одну боль — незатихающее движение души.
Мне хотелось, чтобы стемнело, и стемнело поскорее, но отблеск скрывшегося солнца все еще рассеивал слегка помутневший воздух. Я устремлял взгляд в проулок, откуда должна была появиться Даша, твердил сам себе, что она не придет, но сердце подсказывало — обязательно придет. И еще я чувствовал, что очень скоро, может быть сегодня, стану счастливейшим человеком в мире. Потребность быть счастливым была такой сильной, что я ни о чем другом не мог думать. Все отступило, исчезло — болезнь, страх, однопалатники и даже мать. В душе было одно — ожидание близкого счастья. Наверное, это блаженное состояние было ниспослано мне за те страдания, которые претерпел я. Каким другим словом, кроме слова «страдание», можно было назвать фронт, разлуку с Люсей, мытарства на Кавказе, недавно перенесенную клиническую смерть?
Увидев Дашу, я с трудом сдержался, чтобы не ринуться навстречу, — такой красивой и нарядной была она. Милое лицо с густым румянцем, батистовая кофта с рюшками на груди, коричневые «лодочки» — все это привело меня в восторг…
Три с половиной часа пролетели, как один миг. Возвращаться «домой» не хотелось. Залитые мягким электрическим светом улицы опустели: лишь на трамвайных и троллейбусных остановках теснились небольшие живописные группки — счастливые парочки и неудачники. Разбрасывая влево и вправо могучие струи, неторопливо двигались поливальные машины; вода смывала с асфальта пыль, конфетные обертки, ореховую скорлупу, опавшие листья. Окна в домах напоминали проруби, в глубине которых ворочались на измятых простынях супруги, их отпрыски и другие домочадцы; там, где под одинаково оранжевыми абажурами горели лампочки, люди еще бодрствовали: может быть, ссорились, может быть, прикидывали, как дожить до получки, просто думали о быстротечности жизни, подперев рукой одурманенные вином и табачным дымом головы.
В Сокольниках было темней, чем в центре: хорошо виднелся лишь надземный вестибюль метро; реденькие огни фонарей пунктирно обозначали дорогу к входу в парк. Поблескивали трамвайные рельсы и облитый водой булыжник. Бегущий снизу трамвай с прицепом казался иллюминированным; от дуги отлетали фиолетовые всполохи, рассыпая искры. В вагоне было всего несколько пассажиров. Усевшись на жесткую скамейку, мы с Дашей продолжали оживленно болтать и болтали, пока трамвай катился вниз по Стромынке, потом полз вверх.
На Преображенской площади было безлюдно. Даша повела меня к госпиталю кратчайшим путем. Узкие проходы. Пыль под ногами. Запах гниющего дерева. Маленькие домики с искривленными окнами. Похожие на протянутые руки ветви. Ленивый лай собак. Пугливые кошки. И — ни одного человека. Дашины губы были теплые. Я мог бы целоваться до рассвета, но она, внезапно отстранившись, показала рукой на дыру в изгороди.
— Завтра? — спросил я.
Она кивнула. Хлопнула калитка. Раздался стук каблучков. Ржаво скрипнула дверь. Продолжая ощущать вкус Дашиных губ, я протиснулся в дыру. Поднявшись на четвертый этаж, выглянул в коридор. Никого.
18
Мы сидели на берегу мелкой и узкой Архиерейки, протекавшей в нескольких кварталах от госпиталя. Застроенный сараями и какими-то будками берег полого спускался к воде, пахло тиной, на подступавших к самой речке строениях отпечатались четкие линии въевшихся в дерево и уже высохших водорослей. Посреди Архиерейки, которую правильней было бы называть ручьем, сиротливо лежала «лысая», искромсанная ножами покрышка, вода около нее пенилась, казалось — кипит; около берега под прозрачной водой отчетливо виднелись камушки.
Мы уже успели наговориться, и теперь я «прокручивал» в памяти все, что узнал.
Тугощекая женщина была невенчанной женой Дашиного отца. Он сблизился с тетей Нюрой — так Даша стала называть Анну Владимировну — год назад. Мать учинила скандал. Это еще больше разъединило родителей, живших одной семьей ради детей — двух сестер. Отец сложил свои вещички в чемодан и ушел к тете Нюре: ее муж не вернулся с войны, детей у них не было.
Дашина сестра Вера училась в девятом классе. Сама Даша бросила школу во время войны. Я не стал спрашивать — почему: слово «война» объясняло все.
Живя у тети Нюры, отец продолжал заботиться о дочерях. За деньгами приходила Даша. Тетя Нюра встречала ее приветливо, угощала вкусненьким, и Дашина неприязнь очень скоро растаяла, как снег весной. Через некоторое время отца навестила Верочка. У тети Нюры было тепло, уютно, на столе всегда верещал самовар. Сожительница отца никогда не повышала голос, не ворчала, как мать. Само собой получилось так, что тетин Нюрин дом сделался для сестер пристанищем, где можно было посидеть, отдохнуть. Даша уже не осуждала отца, но и мать жалела — суматошную, рано состарившуюся женщину. Мать догадывалась, где пропадают сестры, однако не упрекала их. Она не теряла надежды вернуть мужа и, видимо, поэтому хотела быть в курсе всех событий, происходящих «там».
Дашин дом находился на противоположной от госпиталя стороне Большой Черкизовской улицы, на берегу большого пруда с возвышавшейся над ним церковью, ее колокола будили меня по утрам, вызывая то радостные, то грустные думы. Меня встревожило, что церковь расположена рядом с Дашиным домом, я стал осторожно выяснять, ходит ли она туда, есть ли в их комнате иконы; удовлетворенно кивнул, когда на все вопросы Даша ответила «нет».
Сам же я верил только в свое будущее, жил смутными ощущениями, ожиданием прекрасного, не имевшего четкого определения. Это просто пребывало в моем сердце, рождало надежды, а иногда какую-то непонятную печаль. Суровая действительность послевоенных лет казалась эпизодом, в подсознании была уверенность, что все плохое скоро кончится, впереди — беспредельное счастье.