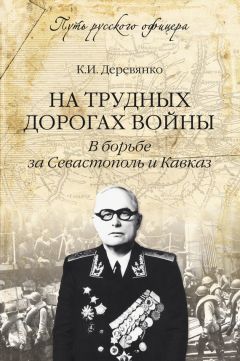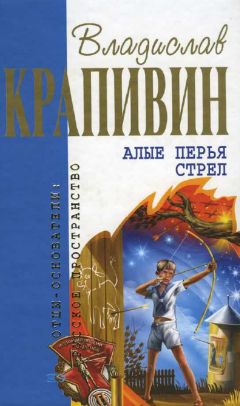Перья - Беэр Хаим
— Ты посылала депешу? — удивилась тетка Цивья.
Никакой телеграммы она не получала, а приехала к нам потому, что ее позвали в дорогу знаки. Мало того что листья на лезущих в кухонное окно ветках апельсинового дерева были совсем поникшими, так еще и в гостиной у себя тетка заметила навернувшиеся слезы на глазах у моей матери под фатой. Свадебная фотография моих родителей стояла у нее на комоде, застекленная, в рамке.
— Прекрасная молодая невеста стала вдруг такой грустной, — сказала тетка. И что же ей было делать? Оставив своему Танхуму пищу на керосинке, она села в первый же иерусалимский автобус.
— Я уже и забыла, что была когда-то молодой и красивой, — вздохнула мать, а потом добавила, что в знаки она все же не верит. Листья апельсинового дерева наверняка покусаны средиземноморской мошкой, а слезы на глазах у невесты — не что иное, как проникшая под стекло влага.
Тетка Цивья уселась на край дивана, с которого мать убрала кипу только что постиранного и еще не разобранного белья, положила одну ногу на другую и стала медленно сматывать с нее эластичный бинт. Завершив эту процедуру с одной ногой, она взялась сматывать бинт с другой и в конце концов обнажила обе свои волосатые голени. Из-за этой ее особенности мать за глаза называла тетку царицей Савской, о которой она достоверно знала, что у той были волосатые ноги. Туго свернув бинты, Цивья сказала, что отдыхать ей, похоже, придется уже в могиле.
— Может быть, сходишь к соседям? — предложила мне мать, вспомнив заодно, что у Рингелей должны быть припасены для меня новые австралийские марки. Выходя из дома, я услышал, как тетка жалуется, что у нее не осталось сил нести на своих плечах всю эту семью.
Танхум Дейч сразу же после свадьбы позаботился о том, чтобы удалить свою молодую жену от ее родни. Реб Бенцион Ядлер — тот самый проповедник, которого Агнон вывел в своем романе «Вчера и третьего дня» в образе раввина Гронема Якум-Пуркана, — искал тогда человека, который станет представителем иерусалимского раввинского суда в земледельческих колониях Самарии [233], и Танхум Дейч с радостью согласился стать таковым. Его обязанностью был надзор за отделением десятины и иных установленных приношений от производившейся земледельцами продукции, но, как говорил дядя Цодек, Дейч быстро понял, с какой стороны бутерброда намазано масло. Сбрив бороду и пейсы, он выбросил свой полосатый халат и устроился на работу чиновником в больничную кассу «Ѓистадрута» [234].
Под вывеской «Шелка Закс» тетка Цивья открыла у себя на дому ателье, в котором она учила жительниц Хадеры кройке и шитью и приторговывала остатками ткани. Вывеску украшала бабочка со скроенными из разноцветных обрезков крыльями. Дяде Танхуму не нравилось, что жена «устроила рынок» у него дома, да и вообще, жаловался он моим родителям, когда мы раз в год, сразу же после праздника Шавуот, приезжали к ним в гости, много ли нужно семейной паре? Детей у них не было, и его заработка в самом деле хватало для пропитания семьи, но тетка Цивья упорно отказывалась закрыть ателье, дававшее ей собственный источник дохода и определенную независимость от мужа.
Тетка любила прихвастнуть, что дома у нее бывает «половина Хадеры», но при этом страшно скучала по Иерусалиму и, как сама она выражалась, «сидела на чемоданах» в ожидании дня, когда с выходом мужа на пенсию сможет вернуться в родной город. А пока этого не случилось, говаривал Танхум Дейч, его жена обеспечивает стабильный доход транспортному кооперативу «Эгед»: раз в две-три недели Цивья выезжала в Иерусалим первым автобусом и бралась здесь за управление делами нашей семьи. Она мирила своих братьев с их женами, навещала подруг и, когда ощущала тяжесть на сердце, шла поклониться могилам своих родителей.
Ее последней остановкой в Иерусалиме становился наш дом. Тетка приходила вечером — с неизменной банкой цитронового варенья для меня и с небольшим отрезом ткани для матери, из которого, как она уверяла, толковая портниха сумеет пошить рубашку, а если исхитрится, так даже и юбку. Для отца у нее были припасены рассказы о новых репатриантках, заполняющих ее дом и скупающих, «как саранча», остатки ситца и броката, к которым никто из солидных клиентов не проявляет интереса. Цивья не жаловала новоприбывших, называла их «понаехавшими» и, насладившись ломтиками консервированного ананаса, банку которых мать специально для нее открывала, заводила рассказ об обитательницах транзитных лагерей, смазывающих волосы маргарином за неимением бриллиантина и щеголяющих в розовых комбинезонах из искусственного шелка, которые им раздает «Сохнут» [235].
Ближе к ночи мать застилала для Цивьи мою кровать, отправляла меня спать с отцом, а сама садилась в кресло рядом с золовкой и тихо разговаривала с ней в темноте до тех пор, пока одну из них не одолевал сон.
Вернувшись в тот вечер из ссылки к соседям, я неожиданно услышал от матери, что буду спать в своей постели. Гостье досталась кровать отца, ночевавшего, как все полагали, у резника в одном из далеких галилейских селений. Тетка Цивья уже лежала, укрывшись одеялом до носа, и молча рассматривала потолок. Ее вставные зубы, поблескивавшие в стакане рядом с кроватью, напоминали челюсти древнего морского животного. Когда я выключил свет в своей комнате, тетка снова заговорила с матерью, и ее лишившийся твердости голос был совсем не похож на тот, каким она говорила днем.
Моим появлением была прервана беседа про деда. Чем чаще он исчезал из дома, рассказывала гостья, тем больше его жена замыкалась в себе, и в конце концов она вообще перестала вставать с постели. Даже в жаркие летние месяцы бабка лежала под пуховым одеялом и поглаживала рукой белый пододеяльник. Движениями ее ладони обозначались маршруты воображаемых путешествий по ледяной пустыне, и эти путешествия часто заканчивались плачем.
— Моя маленькая девочка, — стенала бабка, имея в виду свою ладонь, — провалилась в глубокую снежную яму.
Она просила, чтобы ей принесли веревку и помогли вытащить малютку из смертельной ловушки.
— Она уже и по нужде ходила под себя, а ведь была нашей сверстницей, — говорила тетка Цивья. — Сколько ей тогда было? Лет сорок. Может, сорок три.
Тетке, молодой тогда девушке, пришлось в лучшие ее годы ухаживать за лишившейся рассудка матерью.
— И все это — ради синей слизи, — ядовито заметила моя мать. — Ради каких-то нелепых ракушек [236].
— Не греши языком! — одернула ее тетка и тут же поспешила напомнить, что ее отец был выдающимся знатоком Торы, чьи авторитетные суждения относительно библейского тхелета высоко ценили Радзинский ребе [237] и рав Йехиэль-Михл Тукачинский, величайшие учителя своего поколения.
Дома у них, вспоминала тетка, повсюду стояли склянки, прозрачные и янтарного цвета, и в них находились моллюски, которых ее отец привозил из своих путешествий.
— Совсем как ива и эвкалипт, цветущие в нашем раю! — отреагировала моя мать с прежней язвительной интонацией.
Тетка снова попыталась успокоить ее рассказом о мудрецах Торы и каббалистах, часто бывавших у них дома. Восхищаясь результатами изысканий ее отца, они не раз говорили, что, когда день Избавления настанет и Храм будет отстроен, он станет первым человеком, к которому обратятся за мудрым советом изготовители священнических одежд.
Однажды, продолжила тетка свою речь в темноте, в их бедную квартиру, находившуюся в одном из домов колеля «Унгарин», явились два элегантно одетых француза. Нахум Абушадид, преподаватель французского языка из школы Альянса, сопровождавший их в качестве переводчика, сообщил, что его спутники представляют парижскую фабрику Гобеленов, которая, как известно, является главным в мире производителем текстильных красителей. Они специально прибыли из Европы, прослышав об открытиях деда, и рассчитывают приобрести у него лицензию на производство Indigo israélien. Французские гости кивали, и Абушадид дал понять, что они готовы заплатить любые деньги за собранных дедом моллюсков и известную ему рецептуру красителя.