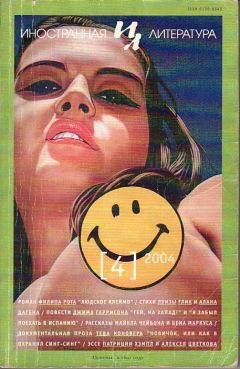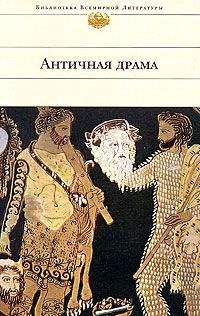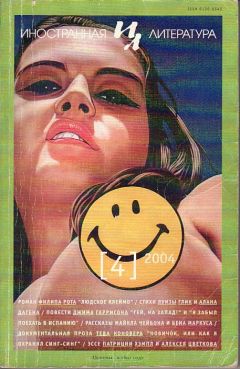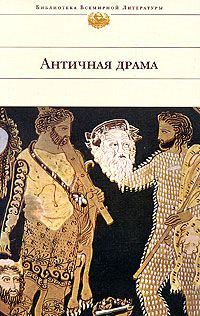Филип Рот - Людское клеймо
Он, конечно, плакал на похоронах, понимая, насколько огромно то, что разом было у него отнято. Когда после библейских текстов священник прочел отрывок из „Юлия Цезаря“, держа в руках отцовский, так ценимый покойным том шекспировских пьес — увесистую книгу в просторном кожаном переплете, который в детстве напоминал Коулмену висячие уши кокер-спаниеля, — сын как никогда остро почувствовал благородство отца, величие его подъема и падения, величие, которое Коулмен начал смутно осознавать еще в тот месяц, что он провел в колледже вне маленькой крепости их ист-оринджского дома.
Трус умирает много раз до смерти,
А храбрый смерть один лишь раз вкушает!
Из всех чудес всего необъяснимей
Мне кажется людское чувство страха,
Хотя все знают — неизбежна смерть
И срок придет[20].
Слово „храбрый“, когда пастор его произнес, сорвало с Коулмена броню мужественного стоицизма и трезвого самообладания, обнажив детскую тоску по ближайшему из близких, которого он никогда больше не увидит, по большому-пребольшому, тайно страдающему отцу, который так свободно, так раскатисто говорил, который одной лишь силой своей речи непреднамеренно привил Коулмену желание достичь чего-то колоссального. Коулмен плакал, беспомощно отдавшись самому фундаментальному и неисчерпаемому из чувств, низведенный к тому, чего он не мог вынести. Подростком, жалуясь приятелям на отца, он вкладывал в свои слова куда больше презрения, чем ощущал и чем был способен ощутить; претензия на безличную объективность суждений об отце была одним из способов выдумать для себя некую неуязвимость и заявить о ней. Ныне же, лишившись того, кто его очерчивал, кто давал ему словесное определение, он словно обнаружил, что все часы вокруг, большие и малые, разом остановились и узнать время невозможно. До того дня, как он приехал в Вашингтон и поступил в Хауард, именно отец, нравилось это Коулмену или нет, сочинял историю его жизни; теперь надо было писать ее самому, и эта перспектива ужасала. А потом перестала ужасать. Миновали три жутких дня, жуткая неделя, две жуткие недели — и вдруг, неизвестно откуда, радость.
„Как можно избежать судьбы, нам предначертанной богами?“ Эти слова все из того же „Юлия Цезаря“ отец повторял ему не раз, но только теперь, когда отец лежал в могиле, Коулмен расслышал их по-настоящему. А расслышав, в тот же миг подхватил и возвеличил. Это предначертано ему богами! Свобода Силки Силка. Очищенное „я“. Вся утонченность личного бытия.
В Хауарде он обнаружил, что по вашингтонским понятиям он не только ниггер. Как будто этого было мало, он обнаружил в Хауарде, что он еще и негр. Хауардский негр. Мгновенно его очищенное „я“ стало частью властного, массивного „мы“, а он не хотел иметь ничего общего ни с этим „мы“, ни с каким-либо другим. Уезжаешь наконец из дома, из этого царства „мы“, как Авраам из Ура, и что находишь — новое „мы“? Другое в точности такое же место, заменитель дома? В Ист-Ориндже он во многом, конечно, был негром, членом маленькой общины численностью тысяч в пять, но, боксируя, бегая, занимаясь в школе, концентрируясь на всяком деле и добиваясь успеха, разгуливая в одиночку по всем трем Оринджам и пересекая, с доком Чизнером или без него, границу Ньюарка, он, не задумываясь об этом, был и всем остальным тоже. Он был Коулменом, величайшим из великих первопроходцев „я“.
Потом он поехал в Вашингтон, и в первый же месяц выяснилось: он ниггер, и только, он негр, и только. Нет уж. Нет уж. Увидев, какая судьба его ждет, он решил, что фиг она его дождется. Бездумно притронувшись к ней, инстинктивно отпрянул. Нельзя позволить большому „они“ одолеть тебя своей нетерпимостью, нельзя позволить малому „они“ превратиться в „мы“ и одолеть тебя своей этикой. Он не потерпит никакой тирании „мы“ со всем, что она норовит на тебя взвалить, со всей ее „мы“-фразеологией. Никакой тирании того „мы“, что спит и видит тебя всосать, принуждающего, всеохватного, исторически заданного, неизбежного нравственного „мы“ с его коварным Е pluribus unum[21]. Никакого вулвортовского „они“, и никакого хауардского „мы“. Вместо всего этого — очищенное „я“ с его подвижностью. Открытие самого себя — вот его ответ, вот его удар в „пузочко“. Своеобычность. Страстная борьба за нее. Никакой стадности. Скользящее соприкосновение со всем на свете. Не застывать — скользить. Самопознание, да, но скрытое. Вот где подлинный источник могущества.
„Остерегись ид мартовских“. Чушь — не остерегайся ничего. Полная свобода. Лишившийся обоих бастионов — старший брат воевал в Европе, отец лежал в могиле, — Коулмен вдруг ощутил прилив новых сил и почувствовал себя свободным: он может стать кем захочет, может штурмовать высочайшие вершины, утверждать свое неповторимое „я“. Он почувствовал себя свободным в немыслимой для отца степени. Свободным настолько, насколько отец был закрепощен. Свободным не только от отца, но и от всего, что отцу приходилось терпеть. От лямки. От унижений. От барьеров. От ран, от боли, от притворства, от стыда — от всех внутренних мук поражения. Свободным для игры на большой сцене.
Свободным идти вперед и добиваться колоссальных успехов. Свободным для главной роли в безграничной, формирующей личность драме местоимений „мы“, „они“ и „я“.
Война еще шла, и ему так и так предстоял призыв — разве только она кончилась бы завтра. Если Уолт сражается в Италии с Гитлером, почему бы ему тоже не повоевать с этим засранцем? Был октябрь 1944 года, до восемнадцати ему оставался месяц. Но скрыть этот месяц, передвинуть дату рождения с двенадцатого ноября на двенадцатое октября было проще простого. Озабоченный состоянием матери, ее горем, ее потрясением из-за его ухода из колледжа, он не сразу сообразил, что может соврать и насчет своей расовой принадлежности. Он был волен назваться кем угодно — хоть черным, хоть белым. Нет, это не приходило ему в голову, пока, сидя в здании федеральных учреждений в Ньюарке, он не разложил перед собой все бумаги, которые надлежало заполнить для зачисления в военно-морской флот, и, прежде чем начать, внимательно и вдумчиво, как будто готовился к школьным экзаменам, их не прочел. То, что он делал в любой данный момент, большое или малое, было для него, пока он не переключался на что-то другое, важнее всего на свете. Но даже тогда эта мысль не в голову ему пришла. Сначала она возникла в его сердце, которое заколотилось так, словно Коулмену предстояло совершить первое в жизни серьезное преступление.
В сорок шестом году, когда Коулмен демобилизовался, Эрнестина уже училась в педагогическом колледже штата Нью-Джерси в Монтклэре на отделении начального обучения, Уолт кончал этот же колледж, и оба они жили дома с овдовевшей матерью. Но Коулмен, твердо решив жить самостоятельно, поступил в университет и поселился по другую сторону Гудзона — в Нью-Йорке. Куда сильней, чем учиться и получить диплом в Нью-Йоркском университете, ему хотелось быть поэтом или драматургом и обитать в Гринич-Виллидже, но устраиваться на работу ради куска хлеба он не желал и потому для достижения своих целей вынужден был воспользоваться учебной стипендией для демобилизованных. Проблема была в том, что, начав учиться, он довольно быстро втянулся, заинтересовался, стал получать высшие баллы и к концу второго курса был на верном пути к членству в обществе „Фи-бета-каппа“[22] и к диплому с отличием по античной словесности. Быстрый ум, цепкая память и превосходное владение речью обеспечили ему здесь лидирующее положение, какое он привык занимать всегда и везде, и в результате то, ради чего он поселился в Нью-Йорке, отступило перед другим, к чему его поощряли, чем, по всеобщему мнению, ему следовало заниматься, в чем он добивался блестящих, неоспоримых успехов. Это уже превращалось в систему: успехи вовлекали его то в одно, то в другое. Разумеется, все это было терпимо и даже приятно, это означало держаться в рамках общепринятого и в то же время из них выбиваться, но цель-то была совсем не такая. Школьником он блистал в латыни и греческом и получил стипендию в Хауарде, хотя больше всего хотел боксировать в турнире „Золотые перчатки“; теперь он не менее ярко блистал в колледже, тогда как стихи его, когда он показал их преподавателям, не вызвали большого восторга. Помимо прочего, он бегал и боксировал — поначалу так, удовольствия ради, но однажды, когда он занимался в спортзале, ему предложили тридцать пять долларов за четырехраундовый бой в Сент-Никс вместо отказавшегося боксера, и, главным образом чтобы вознаградить себя за неучастие в „Золотых перчатках“, он согласился и, к своей радости, сделался тайным профессионалом.