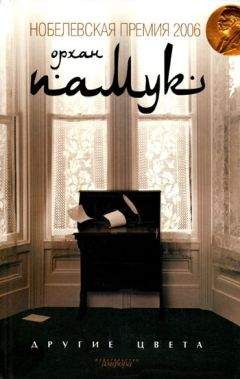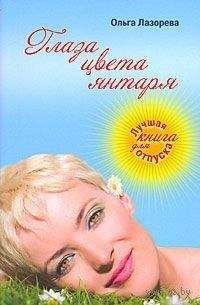Кензо Китаката - Зимний сон
– Даже если Осита к вам не приходил, он за вами наблюдает. Чую я, мы с вами разговариваем, а он где-то здесь, поблизости.
– В таком случае было опрометчиво с вашей стороны сюда приезжать. Вы же выдаете себя с головой.
– Ну, если бы мы имели дело с заурядным преступником, тогда да.
– Думаете, его привлекает опасность?
– Нет, он вообще не принимает опасность за таковую. Когда мы его арестуем, еще придется попотеть – нашу пташку так запросто за решетку не упечешь. Все зависит от результатов психиатрической экспертизы.
Признают Оситу виновным или не признают – все одно отправят его в клинику, где он и погибнет. Если не телом, так душой. А если дать ему самую малость времени, он, может быть, обретет то, что даст ему силы продержаться.
Я не потому заставлял Оситу рисовать, чтобы он стал нормальным. Наверно, я это делал для себя. Наблюдая за подопечными – Оситой и Акико, – я хотел увидеть, как рисуют сердцем.
Звенела капель и на балконе образовалась лужица воды. Когда в нее падала очередная капля, водная гладь шла рябью и скоро снова выравнивалась, походя на лист прозрачного стекла. Казалось, процесс этот бесконечен.
– Грустно становится, когда арестуешь преступника, а за решетку его засадить не можешь – все равно что на волю отпустить. Всегда присутствует вероятность, что он возьмется за старое. Мы опасаемся, что на данный момент опасность грозит вам.
– Неужели?
– Нам надо отловить Оситу, пока он еще что-нибудь не натворил.
С трудом верилось, что полицейских волнует моя безопасность. У меня был весьма внушительный страж в лице адвоката, а «легенда» стражей порядка вероятнее всего была состряпана с расчетом заполучить информатора из «неблагоприятной среды».
– Мы будем поблизости, но вы не будете знать о нашем местоположении.
Я молча кивнул, наблюдая за лужицей талой воды.
Вернувшись к машине, полицейские завели мотор и спешно скрылись.
Гостиная согревалась. Я скинул халат, натянул любимый свитер и поднялся в мастерскую.
На мольберте алел холст. У меня не было потребности соскабливать краску и новых цветов добавлять не хотелось.
Простояв у полотна где-то с час, я спустился в гостиную, подкинул в огонь пару поленец, чтобы пламя не погасло, и вышел на улицу.
Завел легковушку и поехал в город.
Через некоторое время я заметил, что за мной следует другая легковушка. Я не знал точно, кто это, полицейские или нет: в салоне сидел только водитель.
С начала оттепели немного подморозило, и снег заледенел. Теперь он снова стал таять и приобрел консистенцию шербета. Местами, там, где я никогда не пробуксовывал, теперь было скользко, и временами руль вырывало из рук. Я старался не гнать.
Я зашел в придорожную закусочную, заказал карри с говядиной и в ожидании заказа почитывал газету. Никого похожего на шпиков я не приметил.
Я быстро поел и поехал в город. Закупившись в супермаркете овощами и консервами, зашел к ножовщику и приобрел точильный камень взамен старого, истершегося.
Вернулся в хижину. Следом по-прежнему ехал двухместный автомобиль, хотя и старался держаться вне зоны видимости. Весь оставшийся день я затачивал нож.
Им я наносил краску на холст. В отличие от мастихина нож не гнулся, зато с его помощью я наточил несколько сотен деревянных стеков. Инструмент был добротный, хотя лезвие и потускнело. Не знаю, подошел ли бы нож с не подпорченным лезвием для моих целей: ложилась ли бы краска на полотно? Пока не попробуешь – не узнаешь. В то же самое время мне нужен был настолько острый нож, чтобы им можно было сделать ровный разрез на холсте – если рука случайно дрогнет. Тупой нож больше походил на металлическую палочку.
Я смочил камень водой: он тут же впитал влагу. Я на какое-то время оставил его отмокать в воде, а потом принялся затачивать нож.
По ходу дела я сбрызгивал камень водой, и он становился совершенно гладким – мне даже казалось, что сталь не заточится. Впрочем, поверхность лезвия вскоре начала блестеть.
Я работал где-то с час. С одной стороны лезвие уже сверкало и в то же самое время было туповато.
Еще час я затачивал вторую сторону.
Лезвие стало поострее. Через полчаса я его снова проверил. Теперь оно было остро отточенным – даже и не узнать, будто от другого ножа. Я взял кусочек древесины и чисто разрезал его надвое.
А я все точил словно одержимый. Кромка лезвия стала истончаться, смягчилась и совершенно отпала. Я точил и точил. Казалось, нож стал на размер меньше.
Солнце стало садиться.
Когда я коснулся лезвия, оно словно за что-то зацепилось. Это, я где-то читал, было явным признаком хорошей заточки.
Я отложил точильный камень, вернулся в хижину и подкинул в огонь поленце. В очаге тлели угли, но полено быстро разгорелось, живо заплясали языки пламени.
Я повертел нож в руках. Приложил лезвие к подушечке большого пальца и слегка провел. Кожа разошлась без малейшего сопротивления.
Взбежав на второй этаж, я выдавил на палитру черной краски, зачерпнул ее ножом и шлепнул на полотно. Черный стирается лишь черным. Черный способен пронзить человеческое сердце. Я с головой ушел в работу. Теперь полотно с кроваво-красным пятном в центре было испещрено черными шипами.
Когда я отер нож скипидаром, перевалило за полночь. Лезвие потускнело – на следующий день снова придется затачивать.
6
Я натачивал нож, когда зазвонил телефон.
– Не могу остановиться. Рисую, рисую, рисую. Осита был гораздо спокойнее – на грани подавленности.
– И что?
– Я понимаю, почему Акико заперлась. В ее рисунках кое-чего не хватает. Я вижу. Это потому, что я сам начал рисовать. Я знаю, что не так, и хочу исправить, а у нее припадок – кричит, что я все испортил.
– Могу себе представить.
– Запретила мне подходить к ее рисункам.
– Она права. Мало приятного, когда суются в твои картины. Тут любой бы не выдержал.
– Но я же хочу как лучше. Объяснить я не могу, а вот показать – пожалуйста, если бы она только разрешила поработать с ее холстом.
– Даже если ты понял, в чем дело, все равно не сможешь ее научить. Представь, если бы я тебе показал, ты бы смог рисовать как сейчас?
– Не знаю.
– Ты сам всему научился. Поэтому теперь тебе хочется рисовать.
– Пожалуй.
– Оставь ее в покое.
– Я тоже таким был?
– Вплоть до недавнего момента.
Осита сказал, что хочет показать мне свою работу, и положил трубку.
Я снова принялся затачивать нож. Лезвие быстро заострилось – наверное, потому, что накануне я его долго затачивал.
Сидя у очага, я рассматривал лезвие.
У меня возникло странное чувство, будто рядом кто-то есть. Хотелось выяснить его причину. Лезвие, за неимением лучшего слова, было живым. Излучавший холодный стальной блеск, нож словно обладал аурой живого существа: он дышал, напрягался, готовый что-то шепнуть мне.
– Руку? – пробормотал я. – Палец?
Нож явно мне что-то говорил. Я пытался расслышать, уловить – не ушами, а каким-то другим образом.
– Говоришь, пойдем порисуем? Хочешь стать продолжением моей руки, пальцев? Слушай, нуты же просто нож.
Мой голос эхом отдавался в пустой гостиной. Я закрыл рот, который снова попытался что-то пробормотать.
Я коснулся лезвием тыльной стороны ладони и легонько провел по коже. Боли я не ощутил, но заметил порез. Ранка шла единой нитью, вдоль которой друг за дружкой выступили бусинки крови. Едва выступив, они застывали.
С ножом в руке я поднялся на второй этаж.
Черный холст, пунцовый в центре. Что-то накатывало на сердце, словно волны на песок. Пульсация исходила из руки, из пальцев – нет, от ножа.
Я наложил еще краски – желтой, зеленой, белой. Выдавливал на полотно прямо из тюбика.
Не цвет, не очертания – это был сам звук, голос как таковой. Нож испускал звуки и распространял их по полотну. Голос, исходивший из ножа, перекликался с зовом моего сердца.
Я писал картину – по-настоящему писал, куда более сильно, чем когда рисовал «Нагую Акико». Тогда я понимал: вот что значит быть живым – казалось, что прежде я и не жил.
За окном давно рассвело – словно ночь мгновенно уступила дню.
Я отер нож скипидаром, мастихином соскоблил с палитры краски – все это проделывал, ни разу не взглянув на полотно.
Ко мне пришлось осознание, телесное осознание, каково это – не зависеть от цвета и формы. Они для художников – инструменты, и в то же время оковы.
Я спустился на первый этаж, вышел на террасу и принялся затачивать нож.
Наитием я ощущал тяжелые тучи, зависшие над головой. Чем они готовы разразиться? Снегом или дождем?
Два часа ушло на заточку. Я коснулся ножа тыльной стороной ладони и чуть надавил на него указательным пальцем. Нож собственным весом рассек мне кожу. На поверхности ранки выступила кровь – на этот раз не каплями, а единой линией. Она не текла, не капала, затвердевая на глазах, совсем как краска.