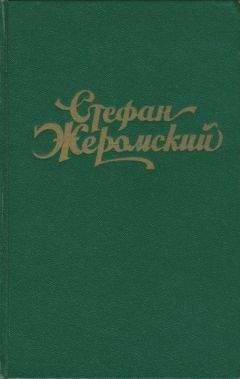Олег Суворинов - Петербург-Ад-Петербург
— Да, я все знаю. Ее избил родной брат, — перебил я и осекся.
— Совершенно верно, — продолжала матушка, — и мне бы не хотелось, чтобы ее беспокоили.
— Понимаете, матушка, дело касается ее брата, ее отца и еще нескольких человек, имеющих к ней непосредственное отношение.
Я не имел желания делиться с игуменьей всеми подробностям случившегося несчастья.
— Вы можете передать мне все, что хотите сказать Екатерине. Я передам, уж будьте спокойны за это.
— Вы, наверное, не совсем понимаете меня, матушка Алексия, — чуть громче сказал я, — дело, с которым я приехал, чрезвычайно важно. Мне немедленно нужно поговорить с Екатериной. Это вопрос жизни и смерти. И знаете, я виделся с нею с утра, и она не говорила мне о том, что хочет поступить послушницей в этот монастырь.
— Она сама сделала выбор. Она выбрала дорогу в царствие Божие. Она решила посвятить свою жизнь служению Господу…
— Я все это понимаю, — вставил я, — пусть все так, как вы сказали, но то, что я собираюсь ей сказать, она просто обязана знать.
— Вам следует знать еще кое-что, — мерно сказа матушка. — Екатерина совершенно простила своего брата, который, к несчастью, болен наркоманией и обещала молиться за его здравие и просить прощения за его грехи перед Господом Богом.
— Как ей угодно, — сказал я. — Но мне все же нужно поговорить с ней.
— Боюсь, что это невозможно, — ответила она. — Я ничем не могу вам помочь.
Терпению моему приходил конец.
— То есть вы хотите сказать, матушка, что я не увижу Екатерину.
— Именно это я и хочу сказать. Она хочет уйти от всего мирского, посвятить свою жизнь Богу, и вы не можете настаивать на свидании, которое сейчас ей может только навредить.
— Да что же вы за люди, — сорвался я. — Что же такого в том, что я десять минут поговорю с нею. Я ни черта не могу вас понять!
Матушка поднялась со скамьи, я встал следом.
— Что случится из-за этого? Бог на вас прогневается или что? Я же не со злом к ней приехал. Мне лишь нужно сообщить ей очень важную и трагическую новость, которая напрямую касается ее. Я что, прошу чего-то сверхъестественного, что ли?
Игуменья в недоумении смотрела на меня и ничего не говорила, только мерно перебирала четки в своей сморщенной руке.
— Матушка Алексия, умоляю вас, пойдите мне навстречу! Я вас очень прошу, умоляю вас. Ну чего вам стоит дать мне десять минут поговорить с Екатериной, и, клянусь, я больше никогда не побеспокою вас.
— Я повторю вам: с Екатериной встретиться невозможно, — строго ответила матушка. Лицо ее изменилось, будто я ей наговорил одних пошлостей и проклинал все святое, во что она верит. Но ведь это было не так! Кощунства в моих словах не было. Мне нужно было сообщить Кате трагическую новость…
— Ну чего вы, в самом деле. Ну, что мне сделать, чтобы вы мне разрешили?
— Лучшее, что вы можете сейчас сделать — это уйти из монастыря и не беспокоить нас более, — тихо, но очень отчетливо произнесла матушка.
— То есть как? — крикнул я.
— Да благословит вас Бог! — сказала она и удалилась, шурша своей рясой.
Как только за ней захлопнулась дверь, я в сердцах сорвал с себя крест, купленный в храме по приезде в N, и бросил его тут же на пол, после чего крикнул в сторону двери, в которую вошла игуменья:
— Плевать я хотел на благословение вашего Бога! Ни черта мне не нужно! Провалитесь вы тут все, лицемеры!
Я топнул ногой, а затем пнул крест в сторону все той же двери. Ударив в стену кулаком, я вышел на улицу, где стояла мать Евлампия. Она испуганно смотрела на меня, не моргая. По лицу ее было видно, что она страшно напугана.
— Вы все слышали? — спросил я.
Она закивала головой, ее рот искривился, из глаз начали течь слезы.
— Простите меня, я не хотел вас испугать. Я пойду. Хотя нет, подождите. Могу я попросить вас об одолжении?
Она сделал утвердительный знак головой.
— Дайте мне слово, что никому не скажете об этом. Давайте сделаем вид, что вы меня провожаете до ворот.
Мы пошли в сторону выхода из монастыря.
— Мать Евлампия, — начал я, — мне так и не удалось встретиться с Екатериной. У меня для нее плохие новости. Я сообщу их вам, а вы передайте их Кате. Только обещайте никому больше не говорить.
Она молчала, но по ее молчанию, выражению лица и глазам можно было смело утверждать, что эта монахиня умеет хранить тайны.
Уже подойдя вплотную к воротам, я остановился и сказал:
— Дело вот в чем. Брат Екатерины сегодня убил своего отца, его жену, ее сына и свою бывшую жену. А я убил его.
Сестра Евлампия с ужасом взглянула на меня, но ничего не сказала. Она вся промокла и немного дрожала от холода.
— Понимаете, — продолжал я сквозь сильный озноб, — он убил их всех топором, я убил его. Такие дела. Передайте это, пожалуйста, Кате. Я теперь вряд ли с ней встречусь, — безнадежно сказал я. — Мне теперь грозит тюрьма. Но я вам хочу сказать, чтобы вы только одна это знали и хранили это: я не убийца и никогда им не был. Я за всю свою жизнь не совершил ни одного тяжкого греха. А убил я его после того, как он избил Катю и убил топором своих родственников. И видит Бог, я не мог иначе поступить. Так уж сложились обстоятельства… Так вы передадите ей все, что я сказал?
— Да, — тихо ответила мать Евлампия.
— Спасибо вам, сестра. Я вас буду помнить всегда. Прощайте.
Сказав это, я вышел из ворот монастыря и пошел, куда глаза глядят.
3
Шел я уже часа два, не меньше. Состояние с каждой минутой все ухудшалось. Силы покидали меня стремительно. Озноб становился все сильнее и сильнее. Температура поднялась, как я понимал, высокая. Все тело ныло. Сначала я пошел вдоль автострады, но потом свернул на проселочную дорогу и полем, мимо леса, двинулся в никуда. Кругом стояла кромешная темнота. Грязь хлюпала под ногами; ботинки вязли в ней, отчего идти было все труднее и труднее. Дождь не переставал. Зонт мне уже нужен не был. Он спокойно лежал в моем чемодане.
«Куда я иду? — в полубреду спрашивал я сам себя. — Что мне нужно там, куда я иду?» Мысли путались в моей голове. «Как в два дня могла так измениться моя жизнь? — продолжал я спрашивать себя. — Как же это все могло со мной произойти? Что же я теперь буду делать? Как я буду жить теперь? Бедная моя мамочка… Она, наверное, сойдет с ума, когда узнает, что натворил ее сын. А эта игуменья? Какая она все-таки… Бедная Катя! Что будет с ней, когда сестра Евлампия ей все расскажет? Она не выдержит этого… Как я люблю ее! Кто бы знал…» Я еще долго вел монолог, пока не почувствовал, что больше уже идти не могу. Но все же продолжал путь.
Через полтора километра силы совершенно покинули меня. В полуобморочном состоянии я кое-как сошел с проселочной дороги и упал под пышной елью…
Сложно сказать, сколько я пролежал так. Но когда я в какой-то момент открыл глаза, то сквозь пелену увидел перед собою лицо старика в дождевике. На секунду мне показалось, что это Иван Тимофеевич.
— Иван Тимофеевич, — сказал я в бреду, — это вы?
— Какой я тебе Иван Тимофеевич. Я дед Митяй, — громко ответил старик. — Свят…свят…свят, чего ж ты здесь развалился? Да ночь, да под дождем.
Я ничего не ответил, только закрыл глаза.
— Очертенел ты, брат совсем! Какого… ты здесь валяешься, — снова заговорил старик. Его слова мне слышались так, будто он говорит из бочки. — Ой, батюшки мои, Пресвятая Богородица, горяченный-то какой! Захворал ты, брат… Ну-ка, давай вставай. Давай. — Старик поднатужился, взвалил меня себе на плечи и понес. Я не сопротивлялся. Сил не осталось совершенно.
Через минуту он положил меня на телегу, укрыл дерюжкой, а сверху прикрыл брезентом.
— Лежи тута. Я чемодан сейчас принесу, — сказал он.
Старик вернулся с чемоданом, положил его мне в ноги, сам влез на телегу и крикнул:
— Но-но, пошла старая дурра, пошла!
Телега тронулась и, раскачиваясь, то и дело подпрыгивая на кочках, повезла меня, черт знает куда. В тот момент мне было уже плевать на все.
— Потерпи, брат, скоро доедем, — то и дело повторял дед Митяй.
Я лежал под брезентом и дерюжкой почти без сознания, временами открывая глаза и разглядывая темные верхушки сосен, росших по левой стороне дороги… Дождь прекращался. Озноб усилился до такой степени, что трудно было удержать челюсти, чтобы не стучали. Все внутренности мои дрожали. И я снова закрывал глаза. Порой мне казалось, что я вижу себя со стороны. И не только себя, но и телегу, старую клячу, деда Митяя, который, как гора, сидел, держа в руках вожжи. И снова забытье…
Наконец, телега остановилась. Откуда-то раздался пронзительный лай собаки, который в моей голове разносился стократным эхом и превращался в нечто странное и страшное.
Скрипнули ворота. Телега снова покатилась, но через минуту встала.
— Тпру, стой, проклятая, — кричал дед Митяй.
Старик принялся долбить в дверь, ругаясь:
— Нюрка, етит тваю мать, отопри дверь!
Сквозь звон в ушах я расслышал второй голос:
— Ну, чего разорался-то. Я думала, ты издох там на базаре. Время-то уж ночь-полночь! Где тебя черти носят?