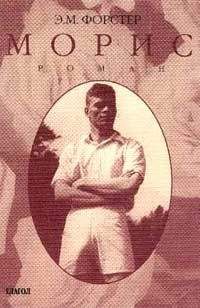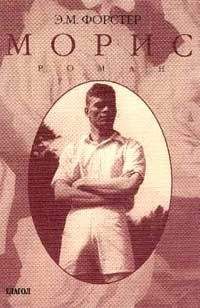Сью Кид - Кресло русалки
Когда он проснулся, солнце уже клонилось к западу. Из шалаша мне были видны апельсинно-оранжевые краски, затопившие горизонт. Уит сел.
– Уже поздно. Я должен успеть к вечерне.
Когда я потянулась за одеждой, он спросил:
– Ты о чем-нибудь жалеешь?
– Ни о чем, – ответила я. Но это была неправда. Я жалела, что замужем. Что в конце концов я причиню боль Хью, уже причинила. Что Ди тоже будет больно. Что клей, скреплявший нас так долго, рассохся. Но о том, что было между нами, я не жалела. Могла бы, наверное, но не жалела. Я знала, что сделаю это снова. С одной оговоркой. Если не жалеет он.
Я не спросила его об этом. Не хотела знать. Мне была невыносима мысль, что сейчас он пойдет к вечерне и будет умолять Бога простить его.
Глава двадцать четвертая
Уит
Он не пошел к вечерне. И вообще в церковь. Быстро шагая, он пересек монастырский дворик, направляясь к своему коттеджу. Войдя внутрь, он, не включая лампу, сел за письменный стол и стал следить, как тьма сгущается за окном, безмолвно поглощая деревья.
К нему так давно никто не прикасался. Годы. Это был род эротической встряски – по крайней мере так он опишет это в своем дневнике. Когда он уже больше не мог различать очертания деревьев, он щелкнул выключателем и записал все от начала до конца, все, что случилось и что он при этом чувствовал.
Ему не следовало рисковать и записывать это, но он не мог удержаться. Чувства всегда были странными, неисповедимыми пометами в его сердце вроде тех, которые он однажды видел на камне в Росетте. Он разглядывал камень очень долго, за это время мимо успела пройти не одна сотня посетителей музея. Он чувствовал, что смотрит на что-то глубоко личное, и с тех пор пытался расшифровать эмоциональные каракули в самом себе, описывая их. Странно, но таким образом они становились понятны, превращаясь в глубокое чувство. Вот и сейчас. Он ощущал, как ее руки обнимают его. Видел ее тело, вытянувшееся на земле, мурашки на ее груди. Чувствовал, как снова растворяется в ней.
Он отложил ручку и встал, чтобы размяться. Он мерил комнату шагами и всякий раз, проходя мимо кровати, смотрел на прибитое в изголовье распятие. Кровать представляла собой простой матрас на металлической раме и занимала большую часть комнаты. Ему хотелось лечь на колючее бурое одеяло и моментально уснуть. Долгая ночь впереди пугала его.
Он занимался любовью с женщиной.
После этого он не мыслил себе жизни в аббатстве.
Он опустил жалюзи на створных окнах и снова сел за стол. Пытаясь быть практичным, он хотел препарировать ситуацию, рассечь ее на составные части. Он записал логичные на вид предпосылки случившегося. Близость с Джесси должна была восполнить потерю Линды. Или же теперь, накануне принятия последних обетов, он выискивал пути к отступлению? Может быть, его либидо, насильственно поставленное в условия такого жесткого самоограничения, внезапно бросилось в другую крайность? Ему даже пришло в голову, что поэты и монахи веками использовали сексуальное воображение, чтобы писать о своем союзе с Богом. Мог ли он искать в случившемся какой-то интимной близости с Богом?
Он перечитал все возможные причины, и они показались ему смехотворными. Они навели его на мысль о святом Фоме Аквинском и его сочинении «Сумма теологии», которое его наставник считал верхом совершенства, но все же на смертном одре философ признался, что все это пустяки по сравнению с тем, что он пережил в своем сердце.
То же чувствовал и Уит. Его рассуждения были мелочными, пустячными. Кучей дерьма.
Он сделал невероятную вещь, потому что любил ее, хотел ее, – вот единственное, что он знал. Он знал, что жизнь вновь лавиной накрыла его, чувствовал, каким обманчиво притихшим кратером было его сердце до того, как он встретил ее.
Закрыв записную книжку, он взял потрепанный томик Йетса и открыл на отрывке, который читал и перечитывал сотни раз.
Он встал и вымыл лицо и руки над раковиной. На костяшках пальцев обнаружил мелкие порезы. Он промыл их с мылом, потом снял рубашку, поднес к носу и понюхал. Он почувствовал ее запах, запах того, чем они занимались. Вместо того чтобы швырнуть ее в маленькую корзину с грязным бельем, он повесил ее вместе с другими, чистыми рубашками и рясами.
Вечерняя служба закончилась, и началось Великое Молчание. Теперь монахи сидели запершись в своих комнатах. Он услышал отца Доминика, который вернулся на полтора часа раньше, услышал, как застучала его машинка.
Натянув через голову футболку, Уит надел поверх куртку. Он открыл и бесшумно закрыл за собой дверь. Он не взял фонарика, только четки. На ходу они побрякивали в кармане. В небе висел новехонький месяц, и Уит знал, что через несколько часов начнется прилив. Он проступит среди остролиста, как перекипевший суп. Там, где они занимались любовью, вода поднимется на двадцать футов.
По ночам, когда Уиту не спалось, он обходил остановки на крестном пути. Это отвлекало, успокаивало его. Кроме того, ему нравилось, что они не в церкви, что это простые бетонные плитки, расположенные на земле, как плиты мостовой. Ему нравилась проложенная ими извилистая дорожка, вьющаяся за коттеджами между дубов, и животные, которые иногда мелькали перед ним во время прогулки, внезапный красный свет их глаз. Он видел полосатых скунсов, красных лисиц, сов и однажды – рысь.
У первой остановки он достал четки, приложил ко лбу и опустился на колени перед грубо вытравленным на камне изображением Иисуса, стоящего перед Понтием Пилатом. «Иисус, осужденный на смерть». Аббат сказал, что они должны вникать в эти сценки, проходя мимо, становиться частью их, но Уит едва мог сосредоточиться.
Закрыв глаза, он постарался вспомнить молитву, которую должен был произнести у первой остановки. Он не понимал, как это возможно – не увидеть ее вновь. Ему захотелось тут же побежать к дому ее матери и постучать в ее окно, как будто им было по семнадцать. Ему захотелось скользнуть к ней в постель, раздвинуть ее колени своими коленями, переплести свои пальцы с ее пальцами, слиться с нею и говорить о своих чувствах.
Он посмотрел на лежащий на земле камень. Он желал знать, приходилось ли Иисусу выдерживать подобную борьбу, любил ли он когда-нибудь женщину так. Ему хотелось думать, что да.
У второй остановки – «Иисус несет свой крест» – Уит снова преклонил колени, на этот раз с большей решимостью. Он прочел назначенную молитву и стал вглядываться в сценку, яростно мотая головой, когда ему виделась она.
Он стоял, склонившись над шестой остановкой – «Вероника отирает лицо Иисуса», – когда луч фонарика пронзил тьму, и он увидел направлявшуюся к нему фигуру. Уит поднялся. Он заметил только, что фигура была в рясе, но лицо находилось в глубокой тени, так что Уит понял, что перед ним отец Себастьян, только когда тот уже подошел вплотную к нему.
Свет на мгновение скользнул по лицу Уита.
– Так вот ты где, – сказал отец Себастьян. – А я как раз из твоего коттеджа. Искал тебя. Ты не был на вечерне, за ужином и – о, тайна тайн – не был у второй вечерней службы. Итак. Разреши эту великую дилемму и объясни мне, где ты был.
От тона, каким были произнесены эти слова, Уиту стало не по себе, он насторожился, чувствуя, что попался на удочку. Как будто отец Себастьян действительно все знал. Но ведь он не мог, откуда?
Уит посмотрел на звездную россыпь в небе, затем на отца Себастьяна, который скрестил руки под наплечником и буравил его взглядом из-за массивных стекол своих очков.
Отец Себастьян пришел из его коттеджа. Был ли он внутри? Заглянул ли в записную книжку?
– Ну, я жду, – сказал приор. – Ты был болен? Если так, то для больного ты прекрасно выглядишь.
– Я не был болен, отец.
– Что же тогда?
– Я был на птичьем базаре.
– Ты был на птичьем базаре. Разве не замечательно? Он прохлаждается на птичьем базаре, пока весь остальной хор исполняет свои обязанности.
– Извините, что я пропустил хор.
– Послушай, брат Томас, я – приор. Отвечаю за дисциплину в монастыре. Я один из тех, кто должен быть уверен, что все ведут себя правильно. Я этого не потерплю, понимаешь?
Если он и не знает, то уж точно подозревает что-то.
Уит ничего не ответил. Он долго стоял неподвижно, в молчании, выдерживая на себе взгляд отца Себастьяна. У него и в мыслях не было приукрашивать случившееся. И дело не в том, что он не чувствовал себя виноватым, – чувствовал. В тот момент, когда он вернулся с птичьего базара, где занимался любовью с ней, на него обрушилось чувство вины, острое и сокрушительное, гнетущее суровой необходимостью быть прощенным, и все же какая-то часть его ощущала себя безнаказанной, принадлежащей только ей, недоступная аббатству и даже Богу, тем, кто не распоряжался этой частью его души и не смел касаться ее.
Когда они проходили последние восемь остановок, рассыпанные между дубов, слабо светящиеся на земле, он отвел взгляд от отца Себастьяна, устремив его на окружавшее их дикое пространство болот. Он подумал о том, какое утешение таило в себе это место; его уединение там было свободой. Домом. Безвестной и благодатной нищетой. Что ему делать, если теперь самое желанное место для него не аббатство, а женское сердце?