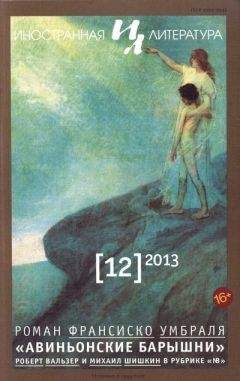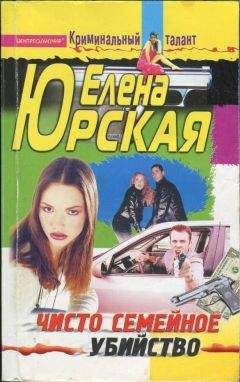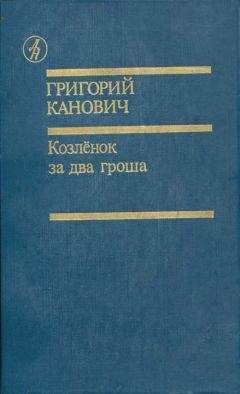Иосип Новакович - День дурака
Вукич препроводил Ивана через несколько дверей и вытолкал его из своего дома, а подошва его ботинка отпечаталась на glutei maximi et mimirni [10]Ивана. В его мозгу подскочило электрическое напряжение, включая разные лампочки: мысли, чувства и эмоции – прежде всего панику, стыд, унижение и боль; он испытал всю гамму чувств, какие только может испытать простой смертный, за исключением разве что благодарности.
Несколько раз перекувырнувшись через голову, Иван приземлился на задницу. Это был четверг, базарный день. Толпы людей возвращались с рынка с запасами сыра, масла, сельдерея, яиц и пронзительно орущих цыплят. Когда голый Иван появился посреди улицы в чем мать родила и с полуэрегированным членом, пинаемый Вукичем, то собравшиеся вокруг зеваки разразились громким хохотом.
Ивану хотелось забежать обратно в дом, спрятаться в коридоре, но Вукич встал в дверях, чтобы вытащить сигаретку и закурить. Иван пробирался сквозь толпу.
– Посмотрите на нашего донжуана.
– Казанова, научишь меня, как соблазнять женатых дамочек? Сколько ты возьмешь за тридцатисекундный урок?
– А что это за фитюлька, которая напоминает пенис?
Иван пробрался через толпу и побежал домой, его яйца подпрыгивали на бегу, а за ним, словно за уезжающим цирком, бежали ребятишки, крича и швыряя в него камни.
Иван заболел очень тяжелой болезнью – хроническим стыдом. Вместо того чтобы перестать думать о своем позоре, Иван не мог остановиться и думал о нем постоянно.
Ему казалось, что коллеги по работе стараются не смотреть ему в глаза. Он решил: «Им неприятно думать о том, что я почувствую, если они посмотрят мне в глаза. Но не из уважения, уж я-то их знаю!»
То, что все отводят взгляд, убедило Ивана, что за ним все наблюдают и смеются у него за спиной. Как-то раз один из сотрудников, Павел, внезапно залился раскатистым смехом – по мускулам на животе, вернее, по толстому слою жира, покрывающему их, под белой рубашкой перекатывались заметные волны.
– Что ты смеешься? – спросил Иван.
– Да так, анекдот вспомнил, – ответил Павел.
Служащие и секретарши хихикали или смеялись, хотя и смотрели в бумажки на своих столах или пишущих машинках, словно думали над своими рабочими задачами.
Иван покраснел. Он не верил, что дело в анекдоте.
– Ну так расскажи и нам!
– Он неприличный, при дамах не расскажешь.
– Нет-нет, мы тоже хотим услышать, – запротестовали дамы. – Нам нравятся хорошие анекдоты, особенно сальные!
– Ладно, раз вы действительно хотите, расскажу, – сдался Павел. – Две женщины собирают морковку в огороде. Вдруг одна останавливается с морковкой в руках, смотрит на нее с чувством и говорит: «У моего мужа член ну точь-в-точь как эта морковка!» Подруга спрашивает ее: «Что, такой большой?» «Нет, такой же… грязный».
Иван не засмеялся. Он решил, что этим анекдотом Павел целил в него.
У него возникло ощущение, что людские взгляды следуют за ним, как хвост за кошкой, и как бы быстро он ни оборачивался, он не мог их поймать, так же как кошка не может поймать хвост. Иван наделал кучу ошибок в своей работе.
Здоровье Ивана ухудшалось. У него начались проблемы с сердцем, аритмия, а поверх этих болезней наложилась язва, хотя в пространственном отношении она и располагалась ниже.
Жена практически не смотрела в его сторону, и уже тем более не разговаривала, как будто он превратился в отвратительную свинью.
Затаив злобу, Иван стискивал зубы, и ему ужасно хотелось поколотить Сельму Если его и считают идиотом все остальные, но в семье он мог бы остаться королем. Однако это было бы слишком низко: избиение жен – стандартное решение для многих униженных мужчин, и по этой причине оно не подходило Ивану, который хоть и утратил чувство собственного достоинства, но все еще считал себя благородным, хотя совершенно невезучим.
Таня продолжала хохотать, словно ничего не произошло. Она бегала по дому за кошкой, и они вдвоем кружили по комнатам, как белочки по стволу дерева.
Иван задумался. Я могу умереть от сердечного приступа за чтением скучной статьи о ежегодном собрании российского парламента в прошлом году, а никто и не заметит. Потому что им все равно, жив я или умер.
Он курил сигареты без фильтра, чтобы свербело в горле и во рту. Он выпускал табачный дым направо и налево, как паровая машина, ползущая наверх по крутому склону.
Ночью он ворочался в кровати, причем каждую следующую ночь все сильнее и сильнее, вплоть до самой драматичной ночи в его жизни, вернее, смерти.
В ту ночь лягушки не квакали, а как будто хрюкали. Комары жужжали прямо над ухом. Звуки забивались в поры потной кожи. Жена тоже вспотела. Кровать была мягкой, поэтому она скатилась прямо к нему и лежала теперь вплотную, касаясь кожей.
Комариные укусы чесались, Иван расчесал их чуть ли не до крови, но не мог остановиться и впивался ногтями в свою собственную плоть. Он повернулся на правый бок, чтобы быть подальше от Сельмы, и попытался уснуть, но ему удалось только громко и довольно болезненно выпустить газы.
С улицы раздавался гул мотоциклов и автомобилей, сначала тихо, потом громче, и снова тихо, чтобы раствориться вдали. Доносились голоса подростков, веселые и грубоватые, с нотками их собственных надежд. Они обсуждали футбол и девочек, потом наступала гудящая тишина, послышалось эхо шагов одинокого прохожего, и снова голоса тех же подростков и кваканье тех же лягушек, а если и не тех же, а других, то звучали они совершенно одинаково. На японском будильнике с легким свистом минуты сменяли друг друга. Иван посмотрел на светящиеся зеленые цифры: 1.10, 1.11.
Жена начала храпеть, а потом перестала.
Внезапно ужас смерти вонзился в его кожу, пропитывая кровь, словно яд кобры. Иван ощутил запах ладана, пощипывание в ноздрях.
Он вспомнил все похороны, которые ему довелось видеть, которые каким-то образом сплавились в единое целое – в его похороны. Иван увидел себя в гробу в черном костюме, его бордовая голова возлежит на подушке, отчего у него сделался очень задумчивый вид, как у человека, размышляющего о бытие и небытие. Иван ощутил укол стыда за свои старые носки и сморщенные гениталии.
Он пришел в ужас от мысли, что умрет, просто внезапно исчезнет, ничего в жизни не совершив, ничего не поняв. Ни одна из картин не могла удовлетворить его с эстетической точки зрения или усладить душу, если у него вообще была душа. Он испытывал только какое-то суетное волнение и тщеславие.
И сейчас, из тщеславия, жалея, что не может подумать о себе лучше, чем есть, заволновался по поводу того, что прожил жизнь впустую.
В темноте все невзгоды обрушились на него. Волоски на руках и ногах встали дыбом. Он снова падал, обнаженный, на мостовую под взрывы хохота, которые воссоздавались в его голове со всей яркостью через какую-то розоватую пелену с ироническим эхом унижения, пережитого в детстве: он ударяется головой об асфальт, проиграв в драке, а остальные дети издеваются над ним.
У него свело живот от тошноты, изжога поднималась по грудной клетке, где тупая боль усиливалась с каждым вздохом с левой стороны грудины. Сердце билось в странно медленном ритме, оставляя пропасть между ударами, пустоту, в которую, ему казалось, он падает.
Сердце стишком долго дожидалось следующего удара. А будет ли он вообще, этот следующий удар? Иван не осмеливался сделать вдох, боясь, что воздух надавит на сердце и задушит его. Даже глоток воздуха мог убить.
Смерть внушала ужас, но мысль о том, что снова придется выйти из дому, вселяла тревогу. Как бы хотелось больше никогда не двигаться, но оставаться живым, зависнуть где-то между жизнь и смертью, не умирать, но и не жить.
И словно исполняя его желание, сердце замешкалось и не стало биться. С Иваном случилась истерика, от которой тело содрогалось в конвульсиях от мощных ударов током, после которых он застывал без движения. А когда удары током прекратились, Иван оказался парализован. Он не мог пошевелиться. Глаза остались открытыми, ему не удавалось их закрыть.
Кто сейчас мог винить Ивана за то, что он не справился со своими проблемами? А как, скажите на милость! Он не мог пошевелить ни единым мускулом.
Сначала Иван обрадовался своему новому состоянию. В этом было что-то впечатляющее, экстраординарное, окутанное misterium tremendum [11], что-то ужасающее. И теперь вместо презрения он испытывал к себе жалость. Через эту жалость он поднялся на новую высоту – уважения, даже нет, любви к себе.
Иван невольно продолжал дышать, словно за него это делал кто-то другой, живущий в его теле. Его сердце неуловимо билось с длинными интервалами, усиливая ощущение пустоты. Ивану стало интересно, услышит ли он сердцебиение, как обычно, в ушах, шее, больном зубе, но ничего не чувствовал и даже задумался: а бьется ли его сердце?