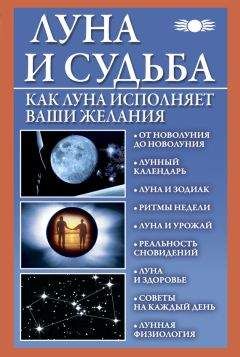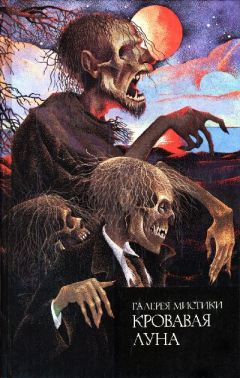Грэм Грин - Меня создала Англия
– Может, оставим его у кого-нибудь? – сказал Энтони. – Пусть наконец проведет интересную ночку. – Он насвистывал меланхолический мотив; из автомобильного чрева тонкий звук струился на дорогу, словно шелковая паучья нить.
– Тогда ты не получишь своих комиссионных.
– Верно.
Некоторое время они ехали рядом с железнодорожным полотном; навстречу бесшумно вылетела электричка, вильнула в сторону, полыхнув по рельсам голубой молнией; впереди помигивал красный свет фонаря. За возвышением светлело небо, хотя для их фар это было далеко, и действительно: когда дорога свернула, они увидели два подъемных крана по обе стороны полотна и огромную ферму трехпролетного моста через пути. Рабочую площадку освещали дуговые лампы; на перекрытиях, свесив ноги, сидели рабочие и затягивали гайки. В тридцати футах под ними на земле валялись ломы, винты, ржавые кронштейны. Энтони притормозил, и Крог проснулся. – Остановитесь, – сказал он. – Это новый мост. Хочу посмотреть.
Среди наваленного железа осторожно пробирался коренастый человек в потрепанном коричневом костюме и с перебитым носом. – Кронштейны 145, 141 и 137, – крикнул он; рабочий бросил сверху конец веревки и, перебирая руками, спустился вниз.
Подъемный кран качнулся, в клубах пара повис захват, и рабочий стал грузить заржавленные металлические прямоугольники. Раскачиваясь, связка повисла над автомобилем Крога.
– Они еще пользуются английскими кронштейнами, – сказал Крог. – Видите марку? Чепстоу.
Люди работали спокойно, без спешки, тихо переговариваясь. Их связывали веревки, стальные перекладины, общая задача; за шеренгой дуговых прожекторов тускло светились фары серого автомобиля. Энтони выключил двигатель, и в машине сразу похолодало. Их не замечали, их присутствие никому не мешало. – Подойди на минутку, Эрик, – позвал мастер; рабочий в рваных штанах шагнул с ним в темноту за прожекторами, и, перебирая болты, они принялись что-то разыскивать в железной свалке. – Какие, ты сказал, кронштейны? – крикнул рабочий с дальней перекладины. – 145, 141 и 137, – ответил мастер. – Подними зад, там же написано, – и все добродушно рассмеялись, празднуя свою сплоченность против холода, темноты и смерти, которая таилась в упавшем болте, в ржавом металле, в перетершейся веревке.
– Я когда-то сам работал на мосту, – сказал Крог и открыл дверцу. – Хочу поговорить с мастером. – И неуклюже застыл у автомобиля – в вечернем костюме, с меховым пальто на руке. – Мой мост был побольше этого, – обронил он.
– Помоги мне тут, Эрик, – проходя перед машиной, сказал мастер; карманы его жилета распухли от бумаг. Он сдвинул назад мягкую шляпу, открыв запачканный лоб, и высморкался. – Куда ты девал пятьдесят седьмые болты? – Не пятьдесят седьмые. Сорок третьи, ты хочешь сказать, – возразил рабочий.
Мастер вынул из нагрудного кармана бумажку.
– Ошибаешься. Как раз пятьдесят седьмые.
– Так эти там.
Шагая по шпалам, мастер направился в сторону Крога. Во рту у него была сигарета. Он шарил глазами по сторонам и в ярком свете ламп казался маленьким и щуплым. За ним неотступно следовал рабочий в рваных серых штанах, а с фермы подсказывали, что болты не там, а подальше, еще немного пройти.
– Дай спичку, друг. – Крог переложил пальто на другую руку и ощупал карманы белого жилета. – Простите, – сказал он, – кажется, я… – Возьми, – сказал задний рабочий. – Лови. – Мастер поймал коробку, зажег спичку, оберегая огонь в сложенных ладонях. В ночной темноте яркие прожекторы крупным планом выхватили его руки: тупые, искривленные ревматизмом пальцы, на левой руке одного недостает. К таким рукам полагалось иметь не моложавую замызганную физиономию с перебитым носом, а что-нибудь жестче, старше и суше.
– Добрый вечер, – сказал Крог.
– Добрый вечер, – обронил мастер, продолжая с напарником искать пятьдесят седьмые болты.
Крог вернулся к машине, вошел и сел. – Я содрал руку, – сказал он. – Поедем дальше. Маленький все-таки мост. – Топыря белый галстук, он глубоко уселся рядом с Энтони. – Они работают ночью из-за поездов, – объяснил он. – Кронштейны у них те же, из Чепстоу. Как мало все меняется. – Но сам он переменился, думала Кейт. Ее расстроила эта сцена: и как его захватила работа, и как не оказалось спичек, когда попросили, и как не нашлось слов объясниться. Они медленно объехали рабочую площадку, но Крог не оглянулся: там все по-старому, а он давно другой.
– Продолжим семейный вечер, – объявил Энтони.
Кейт рассмеялась. – Совершенно верно, – сказала она, – семейный вечер. Такая же зеленая скука. – Она думала: он наш, он вроде нас ищет для себя прочного положения, он никакое не будущее и сам по себе ничего особенного, он в точности, как все мы, и тоже не на своем месте. – Ну, держись! – выжав до предела газ, Энтони чуть не вскинул автомобиль на дымы. – Гулять так гулять. Скучный вечер, говоришь? Ты еще не знаешь, какой я заказал ужин.
– Это, наверное, когда я стакан разбил, – сказал Крог, осторожно трогая ладонь.
Кейт склонилась над его плечом (у нас семейный вечер, он такой же, как все мы, я им пользовалась, теперь он мною пользуется, а вообще он наш, тоже из последних сил цепляется) и попросила:
– Милый, покажи мне руку. – Она разорвала носовой платок, вымазала его кольд-кремом. Потом бережно подняла его руку, приложила к ней платок – бедный, как долго он шел, как он устал, а они его не замечали, не желали признать своим, унизили. Она крепко перевязала ему руку и обняла за шею: семейный вечер, не грех побыть и доброй, теперь мы все трое связаны одной веревочкой, свой своего не выдаст.
***
Подминая под себя воздух, самолет датской королевской компании оторвался от земли; в окошко было видно, как огромное резиновое колесо дважды подскочило на косматой траве и неподвижно повисло над ярким, сверкающим зданием аэровокзала, над белыми крышами; словно пуговицы на светло-зеленом пиджаке, выстроились неподалеку от моря нефтяные цистерны. Фред Холл запихал в уши вату, летчик сменил фуражку с золотым шитьем на маленькую черную пилотку. Все это напоминало приготовления к какому-то важному делу. Дверь в летную кабину была открыта. На уровне глаз пассажира виднелись ноги пилота, еще выше – голубая полусфера безоблачного неба. Воздушные потоки разом поднимали самолет на пятьдесят футов, словно толчком гигантского кулака. Фред Холл раскрыл «Bagatelle» «"Мелочи" (фр.)». Внизу неторопливым червяком уползал Зюдер-Зее; скорости не чувствовалось; залив казался серой лужей в чернильных пятнах, и только какой-то островок сиротливо белел в этом унылом киселе. Самолет набирал высоту. С подъемом теплело, солнце лезло в окна, Фред Холл снял пальто, аккуратно сложил его. Пальто было коричневое, с бархатными лацканами. Узкое загорелое лицо, часовая цепочка с брелком, серебряные браслеты, подбиравшие рукава сорочки, делали Фреда похожим на преуспевающего маклера.
Самолет вошел в облака; море пропало, только изредка проглядывало внизу что-то похожее на озеро в Альпах. «Pilules Orientates» «"Восточные пилюли" (фр.)», прочел Фред Холл, просматривая рекламы. На высоте 1200 метров они попали в грозу, струи дождя, точно стрелы, протянулись параллельно самолету; через полминуты буря отстала, облака расступились, и, внизу почти плашмя легла радуга; она долго провожала самолет, скрывая под своими блеклыми красками целую деревню. «La Timidite est vaincue en quelques jours» «"За несколько дней преодолеваем застенчивость" (фр.)», – бесконечно поражаясь, читал Холл. Просто не верилось, что целые отрасли промышленности работают исключительно на баб – художественная фотография, эти восточные пилюли, стимулирующие средства. Опять вокруг сгустились облака; самолет словно попал в плотный снегопад. Сверкающий, искристый свет лег на страницы «Bagatelle», но самолет поднялся на высоту 1800 метров, и облака остались внизу; их слепящая белизна разлилась до самого горизонта, и ощущение полета пропало; огромное резиновое колесо и тяжелое крыло чуть Подрагивали над бескрайней застывшей равниной. Фред Холл расстегнул жилет – очень донимало солнце; под жилетом была полосатая сорочка. «L'Amour au Zoo», «L'Amour au Djcbel-Drusc», «Amours et hantises d'Edgar Рое», «La Dame de Coeur» ["Любовь в зоопарке", «Любовь в Джэбсл-Дрю», «Любовь и наваждение в жизни Эдгара По», «Дама сердца» (фр.)]. Сколько шуму из-за баб, подумал Фред Холл, жестом загрустившего моралиста опуская журнал на колени. 2700 метров, машинально отметил он, ощупал правый карман, вспомнил, что он в пальто, и только тогда успокоился. Надо быть ко всему готовым. В Амстердаме пронесло, осталось подготовить отчет, и все-таки спокойнее, когда с тобой кастет. Если из тебя не вышел хороший боксер, то умей устраиваться иначе.
Самолет накренился, колени Холла уперлись в спинку переднего кресла: трясясь, как на ухабах, самолет наискось рассекал толщу облаков, пока не показалась земля. До самого горизонта протянулись клеточки полей, точно окна лежащего навзничь небоскреба. Самолет несся прямо на какую-то тонкую мачту, торчавшую вертикально, и вот она упала: это была дорога. Радист, определяя направление ветра, спускал через отверстие в полу нагруженный шнур. Казалось, они застыли на месте: чуть не целую минуту мозолил глаза хуторок, строгий квадрат белых строений под соломенными крышами. Уточнив курс, самолет набрал высоту и снова потерялся в облаках. Фред Холл заснул. Раскрылся рот, показав черный сломанный зуб; вздрагивал никелированный клубный медальон, когда встречный ветер ударял в самолет, – вид Фреда Холла воскрешал обстановку пульмановского третьего класса: воскресная поездка в Брайтон, виски с содовой, крашеная блондинка. Мягкая коричневая шляпа соскользнула на лоб, и во сне Фреду Холлу показалось, что его гладят по голове. Он кашлянул и громко сказал: