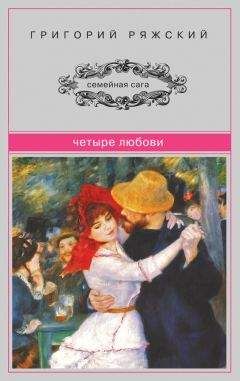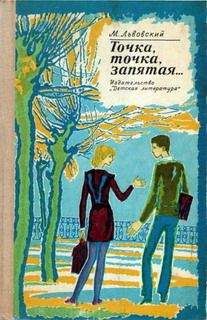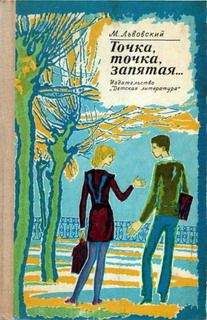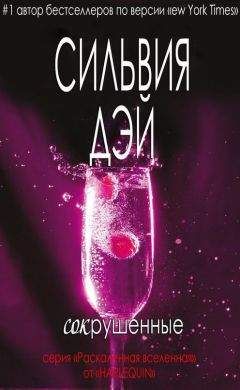Григорий Ряжский - Дивертисмент братьев Лунио
В общем, место такое на карте я и сам не смог бы найти, меня туда отконвоировали этапом. Сначала из города, спецвагоном, переоборудованным «Столыпиным», доведённым властями до нужного ума, с другими такими же невезучими. Потом через четыре с лишним дня железного пути выгрузили и два с половиной часа держали на корточках, руки за головой, у шпал: сторожили с овчарками и автоматами, как фашистов. Сидели, пока за нами с лагеря транспорт не пришёл, зарешёченная крытая перевозка для зэков. Сунули внутрь, впритирку друг к дружке, еле дверь в нас вмяли, а кто вякнул хоть слово, тому по рёбрам прошлись прикладом, чтоб не слишком умничал. И повезли. И еще часа четыре трясли.
Ну и началась моя новая жизнь, очередная уже, послевоенная. Хотя война-то шла ещё вовсю; как – неизвестно, полной правды нам, как и на воле, никто не сообщал. Только мне воевать по-любому больше не позволено было. Я же был по приговору суда одновременно шпион, лазутчик и диверсант. Разве ж такому можно доверить оружие? И против кого он тогда воевать этим оружием станет, против своих?
Зато было дозволено пробивать лес и строить дороги. Там проще, там не опасно, там пулей не убьют, танком не раздавят и за девками в плен и на смерть не отправят. Разве что сам сдохнешь или же перо блатное в бок словишь. А так – тачку, кирку в руки и вперёд. С утра до вечера, неразгибно, километр за километром живого мёртвого пути. Лето, зима – без разницы. Глина, камень – не важно. Босой, обутый – твоя проблема. Отняли, обидели – терпи, дохни или убивай – борись. Жрать дали – жри, не успеешь сожрать – не поймёшь, чего жрать собирался. Всё по закону, всё как в неистовой живой природе: не успел добычу порвать, другие вместо тебя придут и сами порвут, а может, и тебя заодно с главной добычей. А не порвут, так по-любому потравят, но зато после, может, и тебе шмат кинут от остатка, в виде дозволения помучиться ещё чуть-чуть, с собственной голодухой один на один, до следующей травли, до охоты на другую, новую, добычу, если самому тебе повезло покамест ею не стать. Это ещё если норму выполнишь по своему труду, который призван исправить тебя и обществу вернуть. Или устранить от него совсем, чтобы с обществом этим ты больше никогда не пересёкся.
Так меня ломала жизнь, пацанчики мои. Сначала – когда матери лишила, которую не видал никогда, как и вы своей. Потом из интеллигентного еврейского мальчишечки жлобом заделала, держателем несметного сокровища, будь оно неладно. Да я и сам того не хотел, вы же знаете. Боялся. И не того опасался, что помочь хотел людям, – истинно так, а того, что узнают про помощь эту. Другие такие же люди. И за руку схватят. И мало не покажется тогда, закон военного времени вникать да обмусоливать не дозволит, зато разрешит отнять, унизить и покарать. Ох, как и рано же понял я это, ребятки!
А дальше вы знаете, как воевать за Родину не дали, девок им подавай сисястых, понимаешь. И как словам не верили моим, когда, счастливый, на своих вышел, обнадёженный, оставив в болотной могиле товарища своего. Только одни потом кашей накормили, а другие сюда послали, грех, какого не было, смывать адом этим с вечной его, голову и душу не отпускающей мерзлотой.
Дохли же мы, как мухи, почти каждый день недосчитывались кого-то. И главное, время шло, а что на фронте делается, никто не знал достоверно. Слухи ходили, что вот-вот Гитлер выпустит нас, досюда почти дошёл, всю Сибирь охватил, добивает уже, лес вывозит и руду; а сопротивление народа сломлено окончательно, вся страна не воюет – партизанит, а самого Отца Народов спрятали так, что никому его не найти, и оттуда он, из-под земли, руководит партизанским движением. А Гитлер всех нас в лагерь соберёт, в один, в общий, и перебирать начнёт, кому из советских зэков жизнь оставить, чтобы на него трудились, а кого в утиль, чтобы лишний ресурс не изводить понапрасну. Отдельная статья: сидишь при них – стало быть, коммунистам враг. Выходит, для них ты враг уже не такой. Или даже совсем не враг. Смотреть надо, чтобы по твоим заслугам против низвергнутой арийцами власти судить, да по уму. Они ж тоже не звери, они ведь Бетховена породили с Бахом, Гёте с ихним Гейне, философов мировых, крестоносцев разных.
А остальной народ фюрер планирует извести на корню, и сразу, без проверки тех, кто подойдёт для его фюрерского дела, а кто нет, и пропустить через особую усыпляющую машину, в очередь. И дальше, в специальные шахты, давно выработанные, по всему завоёванному пространству. В первую очередь изведёт евреев, поляков и цыган. А когда с теми разберётся и с остальной ненужной ему частью белой расы, типа православных, возьмётся и за остальных, за жёлтых и за чёрных, кроме американских негров. Туда не дотянется, туда ему не хватит кораблей. Да там и кроме него есть кому этих негров порабощать.
Такие в лагере травились сплетни, в перерывах между адовой работой, голодухой и повальными смертями от болезней и нескончаемых зимних холодов. Пересуды эти в основном рождались в недрах лагерного блатняка и уже потом запускались дальше, в лагерную зону. Работать блатари не работали, западло было, умели с лагерным начальством нейтралитет держать взаимный, гады. Скажу вам – что те, что другие, не сильно друг от друга отличаются. Бери меняй погоны, ладь их на робу, а с тех сымай, пяль на других или же наоборот, не очень отличишь потом, если разбираться. Гад всегда греет другого гада или просто терпит – будь он хоть свой, хоть из других гадов. Совьются в клубок, не распутать. Потому что кровь их холодная, беспощадная, равнодушная к остальным, кто не из их серпентария. А ведь видят один другого, чувствуют. Орган есть такой у них специальный – своих от чужих отделять, от кого не гадом пахнет, а человечьим духом, как в сказке про Змея Горыныча, помните? А от кого своим же духом тянет, похожим, но не волчьим – шакальим, тех допускали до себя, не перепутывались никогда, но рядом держали, при себе, могли и пряник кинуть, если заслужил, а могли и клык оскалить, для порядка, чтобы место в стае знал и всегда помнил. Но пришить могли и за них, если надо. Легко, как за своих. Чтоб ни одна фраерская гнида не покусилась на землю волчьей стаи. А где стая, там охота. А значит, и жертва, которая не сможет взять верх, никогда – хоть молись, хоть обосрись. Тамошние так говорили, когда жрали. Жрали и смеялись. Надсмехались.
Притеснять умели нас, как хотели, так и делали, и в страхе держали, тут я не совру. Даже если было и не нужно. Лучшая проверка на выживаемость, скажу я вам. Сильные оказывались трусами, ложились под блатных, в услуженье шли, шестерили, а по своим крысятничали. Слабые становились вдруг непокорными, обретали невесть откуда взявшуюся силу духа. Они-то жизнь свою и кончали раньше других, так и было, а не как про это в книжках разных писано, про храбрость, про геройство и несгибаемую волю к жизни.
Но я-то причину храбрости такой знал, чуял кишкой своей голодной – плевать им было просто на такую жизнь, оттого и не боялись столько, сколько по уставу лагерному было положено. Неизвестно ещё, что лучше для них было, унижение это каждодневное и голодная мука или же обрубить всё разом да и уснуть навечно. Один, помню, просил другого, а я услышал, рядом работал: ты, говорит, убей меня, пожалуйста, брат, когда случай будет поудобней. Но так, чтоб я не видел этого и не приготовился. И чтобы не знал, в какой день. Не хочу, сказал, подыхать медленно, лучше сразу. Друг ты мне или не друг? Ты сейчас не отвечай мне, просто посмейся, чтобы я не понял, сделаешь или нет, мне так легче про это будет не думать.
Ну другой, как просили, усмехнулся, и они оба дальше работать стали. Товарищи были, с первого дня друг к дружке близко держались. Не знаю, совпало потом это дело или случайностью оказалось, но только через недели три после этого подслушанного мною случайно разговора первого из них, который просил, в лесу нашли, с топором, всаженным в затылок. И никаких концов. Вот и посмеялись они оба. Такие дела, пацаны.
А что война закончилась, нам даже сразу и не сказали. Не хера, понимаешь, смуту сеять, чтобы ещё на производительности труда сказывалось, план-то по дорожному валу никто не отменял. Но мы раньше, чем стало официально известно, сами узнали, от пересыльных, что с воли пришли, летом сорок пятого, что, мол, Берлин в мае взяли и войне этой уж месяца три как шиндец. А сами, кто как попал: кто пленный был, с концлагеря освобождённого и напрямую сюда, через статью типа меня, кто угнанный был пацанвой ещё в Германию и трудился там на фюрера, а кто за мародёрство победное, под завязку войны немчика грохнул гражданского или немочку снасиловал и задушил после, чтоб дом её обобрать и посылку домой отправить подоходней. В лагере хоть лги, хоть измышляй, хоть клевещи, хоть рыбой дохлой молчи, правда о каждом рано или поздно наружу выберется.
Разные судьбы, разные, но всегда страшные. А на втором году своего отбытия сделался я там Гиршем, ребята. Так до сих пор и живу с этим и сам не понимаю, то ли кличка получилась, то ли просто имя моё от моей же фамилии бывшей бандиты отрезали. Правда, я и так Гиршиком в детстве был, пока не вырос. Папа меня, бывало, ласково так называл – Гиршик мой, Гиршуник. Это всё равно как Гриша, только на идиш.