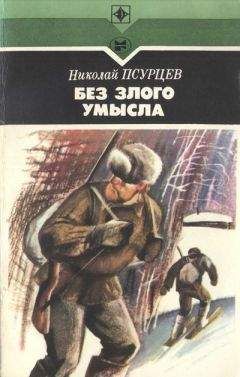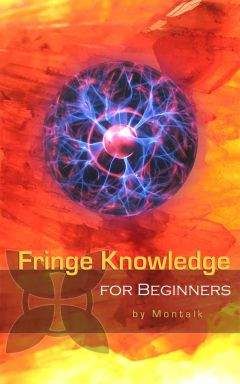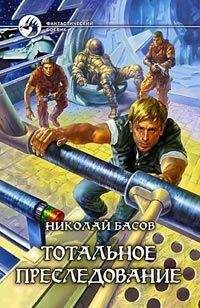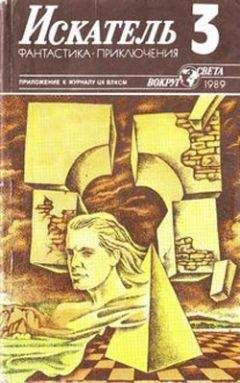Николай Псурцев - Тотальное превосходство
— Еще, — попросила она. — Еще…
— Настя, Настя, Настя, — говорил я, говорил я, говорил я.
— Господи, так можно кончить, — полуоткрыв рот, выдохнула женщина наружу горячий шепот. Глаза ее трогали меня за каждый мой палец на ногах поочередно. Прикосновение царапало и ласкало одновременно. — Наверное, это все-таки по-настоящему единственное мое имя? А? Как ты думаешь?.. Мужской голос, произносящий это имя, заставляет меня снова и снова требовать секса… Твой голос, порождающий это имя, вынуждает меня объясняться тебе в любви…
Свет в окошке. На пыльной внешней стороне — кусочки черного дегтя можно было заметить, наверное сажа — ползали мушки, паучки и комарики — не дружили, кувыркались, суетились; стучались в стекло, нервничая и кривляясь, не желая признавать правду — что они всего-то навсего букашки и таракашки, что они в общем-то дерьмо и помойка — означали себя чем-то или кем-то обязательно важными, пробовали не зря — в глазах окружающих лишь — прожить свою жизнь…
Врать, врать, врать… Всегда и везде. И при любых обстоятельствах. Вранье — это то же, что сочинительство. Вранье — это истинная вторая реальность. Вранье — это один из способов остаться счастливым. Вранье — это один из методов, с помощью которого в этой жизни можно хоть чего-то добиться…
Люди доверчивы и беспокойны. Люди никогда не знают своих настоящих желаний и всегда сомневаются в происходящем. Люди требуют руководства и страдают без объяснений. Люди просят совета и тревожатся — и необычайно болезненно — о собственном будущем. И еще люди убеждены отчего-то — но безосновательно совершенно, — что завтра для них наступит безоговорочно… Многие гениальные умницы использовали и используют по-прежнему, разумеется, в своих благородных, а иногда, случалось, случается, что и исключительно в неправедных целях, все перечисленные человеческие глупости и условности. На самом-то деле они, эти гениальные умницы, все без исключения, точно такие же, что и все остальные люди на этой планете, кроме разве что тяжелых больных и окончательно нездоровых. Они тоже тревожатся, страдают и сомневаются. И просят советов еще — и у Бога, и у дьявола, и у воды, и у огня, и, конечно же, у людей. И ровно настолько же, как и все, которые рядом, надеются на бессмертие… Просто однажды в какой-то момент, после какого-то, возможно, события, они начинают вдруг понимать, и ясно очень, и прозрачно невероятно, что для того, чтобы подняться над людьми — а об этом мечтает обязательно каждый, — и для того, чтобы объявиться для них неоспариваемо исключительным, и для того, чтобы доказать им, что ты являешься избранным, необходимо вовсе даже немного — надо только наврать людям, — но очень убедительно при условии, что неведомы тебе нипочем в твоей героической жизни такие глупости, как тревоги, страдания и сомнения, наврать, наврать — но только предельно правдиво, — что ты безапелляционно уверен в собственной гениальности, в мистической неуязвимости и божеской милости — наврать, наврать…
Даже мушки и тараканчики, и особенно, конечно же, паучки, если бы способны были бы мыслить и говорить, меленькие, слабенькие, безобидные, тихонькие, ничем не примечательные и никак не заметные, тоже сумели бы наверняка, как и люди и как и те из них, которые становятся гениальными умницами, призвав в работу воображение, выдумку и вранье, превратиться, и не без успеха, определенно во что-то необыкновенно могущественное и влиятельное, в кого-то чрезвычайно могущественного и влиятельного… Люди склоняли бы смиренно перед ними свои безвольные головы, прятали бы от них робкие и смущенные от искренней покорности взгляды и прислушивались бы внимательно и пристрастно к каждому бы произносимому или производимому ими звуку…
Вот к какому, мать его, выводу я пришел, глядя в окошко женского туалета, — теперь, обнаженный, все еще сияющий силой и блестящий от исторгаемого телом душистого сока, — нынче замерший рядом с дурманящей меня женщиной, отозвавшейся вдруг недавно на простое, но не атрофированно сексуальное во всех отношениях имя Настя, в двух шагах, то есть неподалеку совсем от не вовремя и не в том месте — как в общем-то и неподдающееся подсчету большинство жителей этого мира — объявившейся неудачливой женщины!
— Банальная история, собственно говоря, — сказал я, раскачивая головой, забрав брови подальше в глазницы, наблюдал за чем-то в памяти женщины Насти. — Таких тысячи, а может быть даже и миллионы. Об этом пишут газеты. Об этом рассказывают друг другу люди… Неизлечимое естество. Обретающийся в генах изъян. Подавленность разума чувствами… Короче, папашка тебя трахал в детстве как гребаный кот, мать его, ненасытный… Но ласково. Одиннадцать тебе было или двенадцать. Любил с тобой поговорить после секса. И до секса, разумеется, тоже. В любое время хотел с тобой говорить… Плакал часто… Считал тебя удивительно, удивительно умной, все понимающей, его понимающей, именно его понимающей… Он бы на тебе безусловно женился, если бы такое было возможно. Он действительно в первый и в последний раз в своей жизни был в кого-то влюблен… Пробовал несколько раз покончить с собой… Но слабак. Попытки никогда не доводил до конца. Клял Бога, что ты его дочка, а не какая-нибудь там посторонняя девочка… Трагедия, на хер, сплошная трагедия… Но зато как насыщена жизнь…
Я видел свою фантастическую женщину сейчас одновременно и спереди, и сзади, и сверху, и с боков, и с одного, и с другого; она прекрасна, она единственна, она безудержно и неутолимо желаема. Свист в ушах — я как пуля из пистолета «беретта», я как снаряд из противотанкового орудия промчался, сосредоточенно отыскивая вход в гиперпространство, под ее влагалищем, дотронувшись на ходу до влагалища языком, широко, сочно, обильно… Вход, разочарованный, не нашел, но зато уперся безрадостно, но захватывающе в глаза незадачливой женщины с длинными волосами… Оттолкнулся от натянутой поверхности смело, засвистел теперь к потолку, вдыхая воздух во все свое металлически-мускулистое тело… Висел наверху, прикрепившись к потолку на какое-то время, пусть выпавшее из потока, пусть неучтенное, и рассматривал ревностно и настойчиво, с удовольствием наркотическим и восторгом старого девственника мою ненаглядную женщину.
Моя женщина, Настя она же, подо мной, макушку ее вижу, плечи, краешек остреньких чистых локтей, черные кожаные пятна мысков, кончик носа, шевелящийся по-детски, будто Настя хотела чихнуть или пыталась к чему-то принюхиваться, подрагивала, стояла, как на морозе, может быть даже еще притоптывала, — нагнулась трудно и только по необходимости, подняла с пола свои трусики, и колготки еще, и юбку, и кофту, раздумчиво, печально-мечтательно, вспоминая и не радуясь никак этим воспоминаниям, но быстро тем не менее надела на себя все свои вещи и проговорила после того, как спрятала наготу, громко, но с неоткашлянной, сознательно или бессознательно, хрипотой, глядя в пространство, не на стену, не на зеркало, не в угол и не на дверь, а на воздух, который прозрачно тек перед ней:
— Это мама… Не папа… Мама… Я в первый раз кончила именно от ее губ, от ее рук… Мама, сука…
В шаги силу вложила, чтобы дойти до двери — хотела упасть на пол и плакать с обидой и жалостливо, мать сурово кляня и отца своего безответного тоже на всякий случай, и школу родную вдогонку, и тупых одноклассников плюс, и подлых, коварных, завистливых, безграмотных учителей, и свою советскую родину, и саму советскую власть, и развратную, но совершенно не сексуальную тем не менее партию большевиков, и лично вместе с ней, разумеется, товарищей Ленина, Сталина, Маленкова, Хрущева, Брежнева и кого-то, понятно, еще — обнимала и целовала волю, и та отвечала ей взаимностью, благодарная, руководила ею и вела ее твердо. Проходя мимо меня, того самого меня, который внизу, коснулась пальцами легких волос у меня на груди — Настя, не воля — и сухо выдохнула, и горячо:
— Я боюсь тебя, и я восхищаюсь тобой… Ты лучший, ты худший… Бог, червь… Передо мной явился ты, как гений чистой красоты! Ты помнишь чудное мгновение… Когда вспомнишь, на х…, расскажешь, на х…!
Дверь оставила за собой. Дверь оказалась за ней. Настя. Настя. Настя… Куда-то ушла или сохраняла за собой прежнее место — впереди двери? Невидимая моим глазам… Я сорвался с потолка и приземлился на холодный кафель, без серьезных ушибов и каких-либо неудобств.
Длинноволосая женщина облизывала мои щиколотки. Как палочки от эскимо, пуская пузыри, гыкая и агукая, задорная и заливистая. Возбуждаясь от личной отваги и собственной радости. Она решилась на это в тот самый миг, как только за женщиной Настей захлопнулась дверь. Смеялась смехом, похожим на стон. Цеплялась, как кошка, ногтями за мои голые ноги. Я не подумал дожидаться, пока она доберется до моего члена, до моих губ и до моего языка. Я взял ее как куклу, как котенка, как щенка, как слоненка, как поросенка, как ягненка, как лягушонка и т. д. под мышки и поставил ее рядом с собой. Запах мочи нервировал и услаждал. Я был в себе, и я был готов! С легкостью и удовольствием приподнял длинноволосую барышню и посадил ее на снежную раковину, на ту самую, на которой только что жила и любила женщина Настя, моя женщина. Задавил поцелуем икоту. Заинтересованные, участливые губы возбуждали еще острее и ярче. Я съедал засохшую на женщине кровь и разрывал бесстыдно обороняющие ее одежды… Вот, вот, вот… Я помню чудное мгновение, я помню, помню, помню… Говорил что-то самому себе непонятное, грубо и жестоко дышал, не контролировал руки — они взбесились, они вытворяли чудовищное… На какие-то мгновения забитыми потом глазами взглянул на женщину, на ее лицо, на ее плечи и на ее грудь, на коленки, на щиколотки и ступни… Выдохнул шероховато. Заматерился отвратительно. И неэротично. Подал себя назад. Отвел себя на шаг или на два. Размазывал пот по соскам своим, по волосам на груди, по шее, по животу.