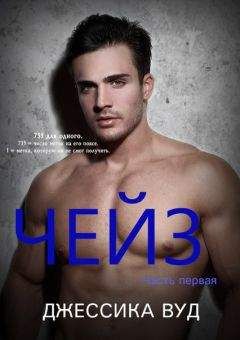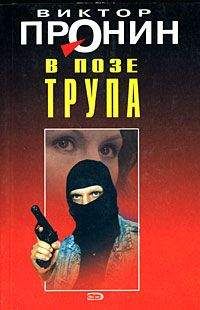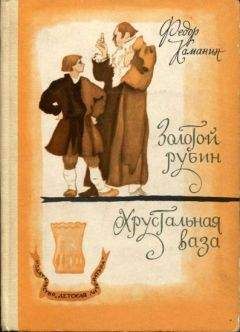Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел
И еще они пели:
Соберемся ли мы у реки,
Прекрааасной, прекрааасной реки?
Этот псалом ему чрезвычайно нравился. И величественное нарастание «Вперед, Христовы воины!».
Потом он вместе со своим классом переходил в одну из маленьких комнат. Повсюду вокруг с рокотом смыкались скользящие двери; затем здание заполнялось ровным монотонным жужжанием.
Этот класс Юджина состоял только из мальчиков. Их учителем был высокий белолицый молодой человек, сутулый и худой, про которого всем был известно, что он состоит секретарем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Он был болен туберкулезом, но мальчики восхищались им за его прежние бейсбольные и баскетбольные подвиги. Он говорил печальным, сладким, хнычущим голосом; он был угнетающе похож на Христа; он дружески беседовал с ними о заданном на этот день тексте и спрашивал, какой урок они могут извлечь из него для своей обычной жизни, для того, чтобы доказывать делом послушание и любовь к родителям и друзьям, для укрепления в долге, вежливости и христианском милосердии. И он говорил, что, усомнившись, как следует поступить, они должны спрашивать себя, что сказал бы им Иисус, — он часто говорил об Иисусе печальным, чуть недовольным голосом, и Юджину, пока он его слушал, делалось как-то не по себе — ему представлялось что-то мягкое, пушистое, с влажным языком.
Он постоянно находился в состоянии нервного напряжения — все остальные мальчики были близко знакомы между собой, они жили на Монтгомери-стрит или в ее окрестностях, а это была самая фешенебельная улица города. Иногда кто-нибудь говорил ему с усмешкой: «Не хотите ли купить „Сатердей ивнинг пост“, мистер?»
В будни Юджин никак не соприкасался с их жизнью, а потому сильно переоценивал их аристократичность. Алтамонт быстро вырос в город из разбросанного по холмам поселка, и таких старинных семей, как Пентленды, в нем было немного; как в большинстве курортных городков, его кастовая система была гибкой до неопределенности и в основном строилась на богатстве, честолюбии и наглости.
Гарри Таркинтон и Макс Айзекс были баптистами, как почти все соседи Ганта, за исключением шотландцев. Баптисты были наиболее многочисленными членами общины — и по социальной шкале они котировались невысоко, считаясь простонародьем; их пастырь, крупный пухлый толстяк с красным лицом и в белом жилете, обладал незаурядным красноречием — он ревел на них, аки лев, ворковал, аки голубка, и часто упоминал в проповеди свою жену, чтобы создать атмосферу интимности или вызвать смех, — члены епископальной церкви, занимавшие верх социальной шкалы, и пресвитериане, менее аристократичные, но зато столпы добропорядочности, считали это нецеломудренным. Методисты располагались как раз посредине между вульгарностью и декорумом.
Этот накрахмаленный, начищенный мир воскресного пресвитерианства с его степенной порядочностью, ощущением сдержанности, неброского богатства, прочного положения в обществе, размеренной обрядности и замкнутой избранности глубоко действовал на Юджина присущим ему безмятежным покоем. Он остро ощущал свою отъединенность от этого мира, в который он приходил раз в неделю, оставляя позади лязгающую хаотичность собственной жизни, — приходил и смотрел на него, чтобы потом из года в год уходить, тягостно сознавая себя чужим. А мягкий сумрак церкви, мощные звуки отдаленного органа, спокойный гнусавый голос священника-шотландца, бесконечные молитвы и яркие картинки, изображавшие сцены из христианской мифологии, которые он ребенком собирал под руководством старых дев, — все это помогло ему узнать что-то о боли, о тайне, о чувственной красоте религии, о том, что было глубже и значительнее строгой пресвитерианской добропорядочности.
XII
Приближалась зима, и угрюмое умирание осени ненавистнее всего ему было в «Диксиленде» — тусклые, засиженные мухами лампы; унылые блуждания по дому в поисках тепла; Элиза, неряшливо кутающаяся в старую кофту, в грязный шарф, в старый заношенный сюртук. Она мазала глицерином потрескавшиеся от холода руки. Ледяные стены гноились сыростью — они пили смерть из воздуха; одна из постоялиц умерла от тифа, ее муж быстро вышел в холл и тяжело опустил руки. Они приехали из Огайо.
Наверху, на веранде, служившей спальней, в бесконечной темноте кашлял худой еврей.
— Ради всего святого, мама! — негодовала Хелен. — Зачем ты их пускаешь? Разве ты не видишь, что он заразный?
— Да не-ет, — отвечала Элиза, поджимая губы. — Он сказал, что у него небольшой бронхит. Я его прямо спросила, а он взял да и расхохотался. «Послушайте, миссис Гант», — говорит…
За этим следовала бесконечная история, украшенная множеством вьющихся прихотливыми ручьями отступлений. Хелен приходила в бешенство: это была основная черта характера Элизы — слепо защищать то, что приносило ей деньги.
Еврей был добрым человеком. Он осторожно кашлял, загородившись белой рукой, и ел хлеб, обжаренный в яйце. Юджин пристрастился к этому блюду — он простодушно называл его «еврейским хлебом» и просил добавки. Лихенфелс мягко смеялся и кашлял, а его жена заливалась звонким смуглым смехом. Юджин оказывал ему мелкие услуги, а он давал ему каждую неделю по монете. Он был портным из Нью-Джерси. Весной он перебрался в санаторий и позже умер там.
Зимой немногие простывшие постояльцы, чьи лица, чьи личности из-за постоянных повторений утратили хотя бы проблеск оригинальности, сидели у догорающих углей в гостиной, раскачиваясь и раскачиваясь в качалках, переговаривались скучными голосами, со скучными жестами, — вероятно, «Диксиленд» опротивел им, и они сами опротивели себе не меньше, чем опротивели ему.
Он предпочитал лето, когда приезжали медлительно-томные женщины жаркого богатого Юга, темноволосые белокожие девушки из Нового Орлеана, пшеничные блондинки из Джорджии, красавицы из Южной Каролины, говорившие с негритянской оттяжкой. И малярики из Миссисипи, апатичные, чуть желтоватые, но с белыми крепкими зубами. Краснолицый постоялец из Южной Каролины с побуревшими от никотина пальцами каждый день брал его на бейсбол; тощий, желтый, больной малярией плантатор из Миссисипи лазал с ним на горы и бродил по душистым долинам; вечерами он слышал на темных верандах звонкий грудной смех женщин, нежный и жестокий, слышал сочные рокочущие голоса мужчин; видел уступчивый потайной южный разврат — темное уединение их полуночных тел, их утреннюю ясноглазую невинность. Желание рвало его сердце окровавленным клювом, как ревнивая добродетель: он высоконравственно негодовал на то, в чем ему было отказано.
По утрам он оставался в доме Ганта с Хелен и играл в мяч с Бастером Айзексом, двоюродным братом Макса, веселым толстым малышом, который жил рядом. Позже, привлеченный сладким благоуханием варящейся помадки, он возвращался в дом, и Хелен посылала его в маленькую еврейскую лавочку на той же улице за кислыми приправами, которые очень любила. И, усевшись за стол в разгаре утра, они ели кислые маринады, толстые ломти спелых помидоров, густо намазанные майонезом, пили янтарный процеженный кофе, ели винные ягоды — «ньютоны» и «дамские пальчики», горячую духовитую помадку, утыканную грецкими орехами и сдобренную ароматным маслом, бутерброды с нежной грудинкой и огурцами, запивая все это леденящими икотными лимонадами.
Вера Юджина в ее гантовское богатство была безгранична: все эти восхитительные деликатесы брались из неистощимых запасов. Куры оживленно и весело кудахтали по всему утреннему кварталу; силачи-негры вносили в дом капающие глыбы льда, вытаскивая их железными клещами из дымящихся фургонов; он стоял под их визгливыми пилами и ловил в ладони ледяную кашицу; он впивал смешанный запах их могучих тел и налипшего на лед мусора вместе с резким масляным запахом линолеума в столовой; а днем в гостиной с ореховой, набитой конским волосом мебелью, где мягко и приятно пахло роялем и старым полированным деревом, она играла ему и заставляла его петь «Вильгельма Телля», «Когда твой голос милый», «Песню без слов», «Celesta Aida»,[3] «Утраченный аккорд», и ее длинная шея вытягивалась, напрягая сухожилия, и звучный голос рвался наружу.
Она ненасытно радовалась ему, обкармливала его кислым и сладким, в перерывах между непрестанными хлопотами валила его на диван Ганта и крепко держала, шлепая большой ладонью по дергающимся щекам. Иногда, доведенная до исступления каким-нибудь капризом своих нервов, она злобно набрасывалась на него, полная ненависти к его смуглому задумчивому лицу, к его пухлой выпяченной губе, к его полному растворению в мечтах. Как Люк и Гант, она постоянно искала занятия для своего беспокойного деятельного жизнелюбия; она приходила в ярость, если замечала, что другие погружаются в себя, и по временам она ненавидела его, когда ее собственные струны перенапрягались и она видела его темное лицо, поглощенное книгой или каким-то видением. Она вырывала книгу из его рук, шлепала его и язвила жестоко и беспощадно. Она выпячивала губу, нелепо вертела головой, сгибая шею, изображала на лице тупую идиотичность и изливала на него страшный поток ядовитых слов.