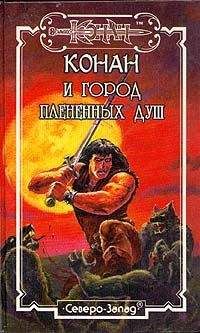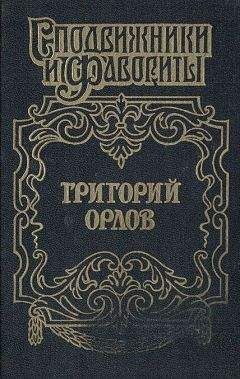Примо Леви - Передышка
Вдруг моряк останавливается, распрямляется, роняет нож. Грудь его вздымается, глаза затухают. Взгляд блуждает по земле, словно ищет и не находит окровавленных трупов. Потерянный, опустошенный, он словно впервые замечает нас, и его лицо озаряется детской застенчивой улыбкой. Кончено, говорит он и медленно уходит.
А вот совсем другая, по сей день оставшаяся таинственной история, история с Лейтенантом, чье имя (возможно, не случайно) мы так и не узнали. Лейтенант был молодой человек, щуплый, со смуглым, всегда мрачным лицом. По-итальянски он говорил превосходно, хотя и с русским акцентом, который, впрочем, вполне мог сойти и за какой-нибудь диалектальный. По отношению к нам он, в отличие от остального русского начальства, не проявлял большого сочувствия и внимания. Разговаривать мы могли только с ним, поэтому атаковали его вопросами: где он так научился говорить по-итальянски? как оказался здесь? из-за чего нас уже четвертый месяц после окончания войны удерживают в России? мы заложники? про нас забыли? почему нам не разрешают писать в Италию? когда мы вернемся домой?… На все наши прямые вопросы Лейтенант отвечал кратко и уклончиво, важным, безапелляционным тоном, плохо вязавшимся с его невысоким военным чином. Правда, мы замечали, что старшие по званию обращаются к нему с непонятной почтительностью, точно боятся его.
В отношениях с нами, равно как и с русскими, он сохранял дистанцию. Никогда не смеялся, не пил, не принимал подношений, даже сигаретой его нельзя было угостить; говорил мало, кратко, словно взвешивая каждое слово. Когда мы впервые его увидели, то, естественно, подумали, что, владея итальянским, он будет представлять наши интересы перед русским командованием, но скоро стало ясно, что у него совсем другие обязанности (если таковые на самом деле у него были и его манера держаться не являлась изощренной формой самоутверждения). Мы в его присутствии предпочитали помалкивать. По каким-то уклончивым фразам мы поняли, что он хорошо знаком с топографией Турина и Милана.
— Вы бывали в Италии?
— Нет, — ответил он сухо, и больше ни слова.
Народонаселение Красного дома пребывало в отличном здравии; пациентов было мало, в основном одни и те же, с постоянными надуманными болезнями, но изредка обращались и с фурункулезом, чесоткой или колитом. Однажды пришла женщина с жалобами на странное недомогание: тошнота, головокружение, приливы, боли в спине. Леонардо осмотрел ее. Она была вся в синяках, сказала, будто упала с лестницы. Наши возможности не позволяли по-настоящему обследовать и диагностировать больных, но методом исключения, а также имея достаточный опыт в этих делах, поскольку среди обитательниц Красного дома такие прецеденты случались нередко, Леонардо объявил пациентке, что, скорее всего, она на третьем месяце беременности. Женщина не расстроилась, не обрадовалась, не выразила ни досады, ни удивления. Выслушала, поблагодарила, но не ушла, а молча села в коридоре на лавку, словно кого-то ждала.
Маленькая, черноволосая, лет двадцати пяти, она выглядела поникшей, готовой ко всему. Ее лицо, не слишком выразительное и привлекательное, показалось мне знакомым, как и говор, с мелодичными тосканскими интонациями.
Где-то я ее точно встречал, но не здесь, не в Старых Дорогах. В моей памяти шевелились смутные предчувствия, однако, как я ни старался, уловить их не мог. Я тщетно пытался вспомнить, почему эта женщина вызывает у меня воспоминание о давнем застенчивом восхищении, о разочаровании, благодарности, страхе, даже о желании, но больше о безнадежности и тоске.
Часы приема закончились, пациентов больше не было, мы собирались закрываться. Поскольку она продолжала неподвижно сидеть на лавке, я спросил, чем мы еще можем ей помочь.
— Не беспокойтесь, — ответила она, — все в порядке, сейчас я уйду.
Флора! Расплывчатые воспоминания неожиданно обрели очертания, соединились в четкую картину; проступили мельчайшие детали, определились время и место, вернулись и тогдашнее состояние души, и общая атмосфера, и запахи. Да, это была та самая Флора, итальянка из Буны, объект наших с Альберто мечтаний в течение целого месяца, неосознанный символ потерянной, причем потерянной навсегда, как мы думали, свободы. С нашей встречи прошел год, а казалось — сто.
Провинциальная проститутка, Флора попала в Германию на принудительные работы, в «Организацию Тодта». Немецкого она не знала, ничем, кроме своей профессии, заниматься не умела, поэтому оказалась в Буне, где ее определили подметать заводские цеха. Усталая, молчаливая, она работала целыми днями, не поднимая глаз от метлы, ни на минуту не отвлекаясь от своей нескончаемой работы. Казалось, она даже солнечного света боялась, потому что редко поднималась на верхние этажи. Покровителя у нее, судя по всему, не было; целыми днями она подметала одно помещение за другим, а когда заканчивала, точно сомнамбула, возвращалась назад и все начинала сначала.
Это была единственная женщина в лагере, которую мы видели изо дня в день, из месяца в месяц, к тому же она говорила на одном с нами языке, но вольным разговаривать с хефтлингами было запрещено. Нам с Альберто она казалась таинственной красавицей, неземным существом. Несмотря на запрет, лишь добавлявший остроты и особой прелести нашим встречам, мы украдкой заговорили с ней: сказали, что тоже итальянцы, и попросили хлеба. Попросили смущенно, понимая, что унижаем самих себя и лишаем романтического налета наши отношения, но голод, с которым трудно договориться, настоял, чтобы мы не упустили подвернувшейся возможности.
Флора принесла хлеб и приносила много раз; с растерянным видом она передавала его нам в самом темном углу и поливала своими слезами. Она нас жалела и хотела еще чем-то помочь, но не знала чем, и к тому же боялась. Она боялась всего, как беззащитный зверек, возможно, даже и нас, но не лично, а как представителей этого странного непонятного мира, вырвавшего ее из родной страны, загнавшего под землю, всучившего ей метлу и заставившего подметать полы, уже подметенные сотню раз.
Мы чувствовали смущение, благодарность, стыд; мы вдруг увидели, насколько мы жалки, и страдали от этого. Альберто, ухитрявшийся находить всякие удивительные вещи, поскольку всегда ходил, не отрывая глаз от земли, нашел где-то расческу, и мы торжественно преподнесли ее Флоре, у которой были волосы. Наши помыслы были чисты и нежны, она снилась нам по ночам. Поэтому мы испытали острое разочарование, смешанное с нелепой и чудовищной ревностью, когда до нас дошло то, что не являлось, по-видимому, тайной с самого начала: Флора встречается с другими мужчинами. Где встречается, как, с кем? Естественно, не в роскошных чертогах, а тут неподалеку, на сене, в крольчатнике, тайно организованном в одном из подвалов совместным кооперативом немецких и польских капо. Делалось это просто: выразительный взгляд, требовательный кивок головой — и Флора отставляет в сторону метлу и послушно следует за случайным мужчиной. Через несколько минут она возвращалась, одна, поправляла на себе одежду и, избегая смотреть нам в глаза, снова бралась за метлу. После такого ужасного открытия хлеб Флоры казался нам горьким, но мы не отказались от него, не перестали его есть.
Я не напомнил Флоре о нашем знакомстве — из жалости к ней и себе. Вспоминая то время, себя в Буне, сравнивая сидящую передо мной женщину с женщиной моих воспоминаний, я понял, что изменился, стал совсем другим, словно из куколки превратился в бабочку. Здесь, почти в райских условиях Старых Дорог, я тоже был грязным, оборванным, усталым, подавленным, никому не нужным, но при этом ощущал, что я молод, полон сил и у меня есть будущее. Флора же не изменилась. Она жила с сапожником из Бергамо, но не как жена, а как прислуга: стирала, готовила и подчинялась ему во всем беспрекословно. Этот наглый бугай контролировал каждый ее шаг и нещадно избивал при малейшем подозрении, отсюда и синяки у нее на теле. В санчасть она пришла тайком и теперь никак не могла решиться уйти, страшась расправы хозяина.
В Старых Дорогах никто от нас ничего не требовал, не подхлестывал нас, никто нами не помыкал, нам было не от чего защищаться; мы как бы оказались в положении жертв наводнения, которым выделили временное пристанище. В нашей однообразной пассивной жизни приезд грузовика с киноустановкой явился примечательным событием. Очевидно, это было передвижное подразделение, которое обслуживало до этого воинские части на передовой и в тылу и теперь тоже возвращалось домой. В его распоряжении были киноаппаратура, электродвижок и запас фильмов. В Старых Дорогах подразделение пробыло три дня, показывая каждый вечер по картине.
Кино крутили в театре. Вместо увезенных немцами стульев просторное помещение заставили грубо сколоченными лавками, неустойчивыми на покатом полу, поднимавшемся от экрана к балкону. На балконе, также имевшем уклон, оставалась свободной лишь узкая полоса внизу: верхняя же часть гениальным решением таинственных архитекторов Красного дома была разбита на каморки без воздуха и света, обращенные дверями к сцене. В них жили одинокие женщины нашей колонии.