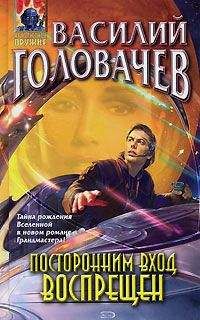Владислав Николаев - Своя ноша
— Пригнать друг к другу две березы, привязать его между ними за ноги и отпустить — вмиг надвое разорвут!
— В том-то и дело, что вмиг. Не помучится даже. Надо такую казнь придумать, чтобы сполна испытал… Придумал! На муравейник посадить!
— Ну, муравьи тоже долго возиться с ним не станут. Разом огложут. Летось мы змею убитую на муравьиную кучу бросили, и полчаса не прошло, как от нее одна шкура пустая осталась, внутри все выели.
— Тогда раздеть донага и привязать в комарином болоте к дереву. Комары не торопятся, по капельке кровь сосут…
Неизвестно, сколько продолжался бы спор, если бы вдруг под окном не заскрипели по снегу окованные железом полозья. Ребята тотчас замолкли, вытянули шеи, заприподнимались с мест, заглядывая в оттаявшие окошки, — кто там? А там, за окошками, подъехал в розвальнях Никита Вдовин, сын кокорской бригадирши Анны Вдовиной.
— Тпр-ру, — сказал Никита лошади, вылез из саней, замотал вожжи вокруг столбика, на котором некогда висел забор палисадника, заткнул за красный кушак кнутовище и пожилым шагом направился в школу. На крылечке он два раза громко сморкнулся и обил нога об ногу с валенок снег. Через минуту Никита в классе.
Вошел без спроса. В пышной собачьей шапке — лица не видно, в больших валенках, в полушубке до полу, перетянутом красным кушаком, за которым слева — кнутовище, справа — меховые рукавицы, и ростом не вышел — ни дать ни взять некрасовский мужичок с ноготок. Держался сурово, важно, на учеников косился строгим взглядом. А те в свою очередь, признавая за ним старшинство и власть, взирали на него с почтением и страхом, а в глазах брата и сестры, Пети и Дуни, светилось еще и обожание.
— Здравствуй, Марья Васильевна, — огрубляя голос, произнес Никита, подтащил к учительскому столу табуретку и сел против Маши спиной к ученикам.
— Здравствуй, Никита. А с ребятами не хочешь поздороваться?
— Не заработали еще, чтобы с ними здороваться-то…
Как тут мои неслухи? На головах, поди, ходят?
— Нет, почему же. Спокойные ребятки.
— Ежели что, сразу жалуйся. У меня есть чем поучить, — и тронул кнутовище за кушаком. — И чужих могу попотчевать, коли заслужат.
— Пока нет нужды, Никита, все хорошо себя ведут.
— То-то… За почтой в район поехал. Тебе завезти на обратном пути, али сама в контору забежишь?
— Уж завези, будь добр, Никитушка.
— Завезу, мимо езжу…
Разговор иссяк, однако Никита все сидит, не уходит, бросает через плечо суровые взгляды на учеников, изредка грозит кому-нибудь пальцем; ученики притихли, пошевелиться не осмелятся, глаза опускают долу.
«Ладно, хватит запугивать детей», — думает про себя Маша, оборачивается к окну и, широко раскрыв глаза, восклицает:
— Никита! А лошадь-то у тебя вверх спиной стоит!
Никита шапку в охапку — и за дверь. Важности как не бывало. Ученики тоже повскакивали со скамеек и, словно воробьи, сыпанули к окнам. Заиндевелая лошадь понуро стоит перед одиноким столбиком, из ноздрей в две струи пар валит.
— А что вы такое сказали про лошадь, Марья Васильевна? — спрашивает кто-то учительницу.
— Я сказала: лошадь вверх спиной стоит.
Ребята переглядываются друг с другом и ничего не понимают. Не понимают, отчего выбежал из избы Никита, почему сами повскакивали с мест — ведь лошади всегда вверх спиной стоят. Глядят вопросительно на Машу, и она им с лукавой улыбкой разъясняет: Никита сорвался с места потому, что наверняка подумал, будто его лошадь как-то не так стоит.
— И я так подумал!
— И я.
— И я.
Оказывается, все так подумали. Значит, учительница просто подшутила над Никитой. И школьные стекла задребезжали от ребячьего смеха.
Вот, наконец, и Никита появился на улице. Встревоженно обежал вокруг лошади, заглянул под брюхо и недоуменно пожал плечами. На что учителка вытаращила глаза? Чему удивилась? На всякий случай подтянул чересседельник и перевязал вожжи на столбике. Ребята, наблюдая за ним из окна, веселились вовсю. Но стоило тому направиться обратно, как смех тотчас угас. Маша воспользовалась затишьем, чтобы навести в классе порядок:
— Быстрее, быстрее по местам. Да виду не показывайте, что смеялись. Вон ведь он какой грозный! Как бы в самом деле кнут в ход не пустил.
Побаивались дети Никиту и, когда он снова пришел в класс, глаз не смели поднять от столов. А он пришел, сел на прежнее место за учительским столом и хмуро спросил:
— Чегой-то сказала ты мне тогда, Марья Васильевна?
— Сказала я: лошадь твоя вверх спиной стоит.
Никита похлопал голубыми глазенками, поскреб пятерней под шапкой заросший затылок, и вдруг его бледное скуластое личико озарилось детской простодушной улыбкой.
— Вон что! — хлопнул он руками по коленкам. — Вверх спиной! А я-то подумал: вверх ногами моя кляча перевернулась. То и вылетел за ворота.
За его спиной запрыскали в кулак ребятишки, Никита оглянулся и по их веселым глазам, верно, догадался, что с лошадью его просто разыграли. Он насупился, поднялся с табуретки, вытащил из-за кушака кнут и угрожающе похлопал им по длинному полушубку.
— Плохо ты их учишь, Марья Васильевна. Никакой дисциплины. Посмотрю-посмотрю да возьмусь сам за них.
И, не прощаясь, направился к выходу.
— Никитушка, на обратном пути, пожалуйста, уж загляни.
— Ладно, — смягчаясь, буркнул от двери Никита.
Из райцентра воротился он уже в сумерки. Как и при утреннем посещении, не разболокаясь, в шапке и с кнутом в руке прошел степенно к Машиному столу и выложил перед ней несколько газет. Помедлив немножко, вытащил из-за пазухи треугольный конверт и заявил учительнице:
— А за это сплясать тебе, Марья Васильевна, придется. За так не отдам.
— Вишь, что выдумал! — строго свела брови Маша. — Я же все-таки учительница.
— Сплясать! — стоял на своем Никита.
— Сплясать! — впервые взяли его сторону ученики.
Делать нечего, вылезла Маша из-за стола, подняла над головой согнутую в локте правую руку, пальцы собрала щепоткою — как бы невидимую газовую косынку прихватила ими, и, раскружив далеко от себя прекрасные русые косы, прошлась несколько раз перед суровым Никитою.
— Ну вот, давно бы так, — сказал он одобрительно, протягивая письмо, когда Маша остановилась и косы ее снова опали вдоль спины.
Письмо было от матери, без марки и почтового штемпеля, посылалось, верно, с оказией. Мать наказывала, чтобы Маша на воскресенье непременно приходила домой (хотя она и без напоминания не пропускала ни одного воскресенья), ибо приехал, наконец, из госпиталя дядя Саша и сейчас со всей своей семьей, женой и пятимесячным сыном, гостит в их доме.
Да, недолго повоевал дядя Саша. Летом с трудом снялся с брони, которая была выдана ему, как председателю колхоза, прошла осень, половина зимы, и вот уже вернулся обратно, вернулся без ноги, будто нарочно только затем и съездил, чтобы похоронить ее, свою ноженьку, на волжском откосе. Без него и сын тут родился. Все родные единодушно положили наречь сына тоже Александром. Вслух никто не высказывал своих соображений, но у всех они были одинаковые: если с тем Александром что-нибудь случится, то хоть этот будет жить.
II
Обычно дети пребывали в школе весь день — от темна дотемна. Здесь они и домашние задания выполняли. Лишь по субботам Маша выпроваживала их пораньше, еще на свету. По субботам она уходила домой, в свою деревню.
Как ни увлекала девушку работа, как ни любила она своих учеников, как ни жалела их, а под кров родной всегда бежала легко и радостно. А в этот раз веселило еще и письмо — вовсе на крыльях летела.
По сельским дорогам теперь ездили мало, все больше пешком ходили. Пешком на проводы и повстречанье. Пешком на похороны, пешком за хлебом насущным. Бойкие проселки превратились в дикие тропинки, зарастающие летом травой, зимой переметаемые снегом. А лесной проселок, по которому торопилась Маша домой, даже тропинкой нельзя было назвать — вихляющая цепочка глубоких проступей, продавленных самою же в снегу еще в прошлую субботу. Хорошо, в течение недели не было ни снегопадов, ни метелей, а то бы снова тащиться в уброд по целине.
По сторонам белыми пышными облаками клубились оснеженные деревья; когда следы заводили под их кроны, Маша в тревоге варежкой закрывала рот: не дай бог сшевельнуть дыханием веточку — тотчас засыплет с головой, придавит, не выбраться.
Даже в самую лютую стужу жарко на убродных дорогах. Спина мокрая, в горле пересохло. Жаль нет с собою соли: положить бы щепотку на язык — и сразу бы жажда перестала мучить. Не утерпела — хватила зубами снег.
На середине пути, у подножья пологой длинной горы, прозываемой Липовой, к давним Машиным следам присоединился свежий, санный — проехали взад-вперед на нескольких санях, провезли с дальних покосов сено, пораструсив его по разбитому снегу, поразвесив клочками на придорожных кустах. Идти сразу стало легче. Да и дорога тут совсем знакомая: не единожды ходили по ней с дедом на Липовую гору, где драли лыко для лаптей.