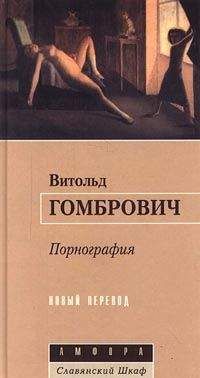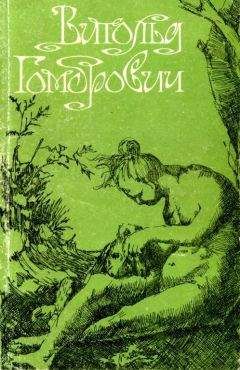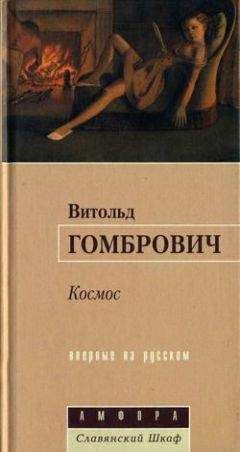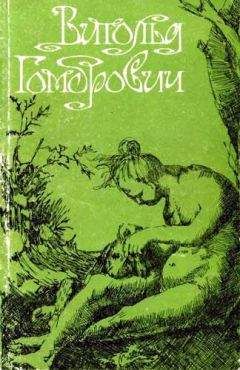Витольд Гомбрович - Дневник
Ибо, если бы я вошел в культуру как чистый варвар, абсолютный анархист, совершенный примитив, или идеальный селянин, или классический поляк, вы сразу зааплодировали бы. Вы бы признали, что я неплохой производитель примитива в чистом виде.
Но тогда бы я был точно таким же производителем, как и все они — те, для кого продукт становится важнее их самих. Все, что в плане стиля чисто, — это подделка.
Настоящий бой в культуре (о котором так мало слышно), как мне кажется, идет не между враждебными истинами или между различными стилями жизни. Если кальвинист противопоставляет свое мировоззрение католику, то это — два мировоззрения. Не самой важной представляется и другая антиномия: культура — дикость, знание — незнание, ясность — темнота; конечно, можно бы сказать, что все это — явления, взаимно дополняющие друг друга. Но вот самый важный, наиболее драматический и болезненный спор тот, который ведут в нас два основных стремления: одно, жаждущее формы, вида, дефиниции, и второе — защищающееся от вида, не желающее формы. Человечество так устроено, что постоянно должно определять себя и постоянно уклоняться от собственных дефиниций. Действительность не является чем-то таким, что можно без остатка заключить в форму. Форма не совпадает с сущностью жизни. Но любая мысль, которая хотела бы определить эту недостаточность форм, тоже становится формой и тем самым лишь подтверждает наше стремление к форме.
А потому вся эта наша диалектика — философская, этическая — разворачивается на фоне беспредельности, имя которой — недоформа, которая не темнота, не свет, а, собственно говоря, — смешение всего, фермент, беспорядок, нечистота и случайность. Противостоит Сартру не священник, а молочник, аптекарь, ребенок аптекаря и жена столяра, граждане опосредующей сферы, сферы недооформленности и недооцененности, которая всегда — нечто непредвиденное, некий сюрприз. Впрочем, Сартр и в себе самом сможет отыскать противника из этой же сферы, которого можно будет назвать «недо-Сартром». А их правда состоит в том, что ни одна мысль, ни одна форма вообще не сможет объять бытия, и чем больше эта мысль или форма охватывают бытие, тем более она лживая.
Не переоцениваю ли я себя? Честное слово, я предпочел бы передать кому-нибудь другому неблагодарную и рискованную роль комментатора собственных сомнительных достижений, но в том-то и дело, что в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь, никто за меня этого не сделает. Даже мой бесценный сторонник Еленьский. Утверждаю, что в кругу своих интересов я многое сделал, чтобы этот конфликт с формой стал ощутимым.
В моих произведениях я показал человека, помещенного в прокрустово ложе формы, нашел собственный язык для выявления его голода на форму и его антипатии к форме, с помощью специфической перспективы я попытался вытащить на свет божий ту дистанцию, которая существует между ним и его формой. И показал, думаю, не скучно, а, точнее говоря, забавно, то есть по-человечески, живо, как между нами возникает форма, как она нас создает. Я выявил ту сферу «межличностного», которая оказывается для людей решающей, и придал ей черты созидательной силы. Я приблизился в искусстве, возможно, больше, чем остальные авторы к определенному видению человека — человека, истинной стихией которого является не природа, а люди, человека, не только помещенного в людях, но и ими нагруженного, воодушевленного.
Я старался показать, что последней инстанцией для человека является человек, а не какая-либо абсолютная ценность, и я пытался достичь этого самого трудного царства влюбленной в себя незрелости, где создается наша неофициальная и даже запретная мифология. Я подчеркнул мощь репрессивных сил, скрытых в человечестве, и поэзию насилия, поднимаемого низшим против высшего.
А одновременно я связал этот ареал переживаний с моей основой — с Польшей — и позволил себе нашептывать польской интеллигенции, что истинная ее задача состоит не в соревновании с Западом в созидании формы, а в обнажении самого отношения человека к форме и, следовательно, к культуре. Что в этом деле мы будем сильнее, более суверенны и последовательны.
И, видимо, я сумел показать на своем собственном примере, что осознание своего собственного «недо» — недообразованности, недоразвитости, недозрелости — не только не ослабляет, но делает сильнее; что оно может даже стать зачатком жизненности и развития — подобно тому, как на почве искусства этот (я бы сказал, апатичный, легкомысленный) подход к форме может обеспечить обновление и расширение набора средств художественного выражения; пропагандируя везде, где только возможно, тот принцип, что человек выше своих произведений, я несу свободу, столь нужную сегодня нашей исковерканной душе.
Неужели вы, знатоки, в самом деле так близоруки, что вам все надо подсовывать под нос? Не в состоянии ничего понять? Когда я бываю среди этих ученых, я могу поклясться, что нахожусь среди птиц. Перестаньте меня клевать. Перестаньте меня щипать. Перестаньте гакать и крякать! Перестаньте с индюшачьей спесью брюзжать, что эта мысль уже известна, а та — уже была кем-то изречена. Я не подписывал контракта на изготовление никем не слышанных идей. Лишь некоторые идеи, из тех, что носятся в воздухе, которым мы все дышим, сплелись во мне в определенное и неповторимое гомбровичевское чувство, и это чувство — я.
Вторник
Ла-Фальда.
Курорт в горах Кордобы. На авениде Эден дамы и господа за столиками кафе попивают прохладительные напитки, в то время как привязанные к деревьям ослы объедают кору, а из громкоговорителя доносится увертюра к третьему акту «Травиаты».
Вроде ничего особенного, и тем не менее для меня это место, словно лица во сне — некая мучительная комбинация; эти лица так мучительны, потому что составлены из двух разных обличий: одно заходит на другое, маскируя друг друга. Отовсюду на меня здесь глядит враждебная Двойственность, за которой кроется секрет, слишком тяжкий и хитрый, чтобы разгадать. А все потому, что я уже был здесь, лет десять тому назад.
Я вижу.
Тогда, потерянный в Аргентине, без работы, без опоры, висящий в пустоте, не знающий, чем буду заниматься через месяц, я спрашивал себя с любопытством, доходившим иногда до абсолютно болезненного напряжения, которое имело привычку будить во мне будущее, — спрашивал, что будет со мною через десять лет.
Поднялся занавес. И вот я вижу себя за столиком, в кафе, все на той же авениде; да, это я. Это я через десять лет. Кладу руку на столик. Смотрю на дом напротив. Зову официанта и прошу un cortado[61]. Барабаню пальцами по столу. Но все это имеет характер дешевой информации, переданной тому, кто был десять лет назад, и я веду себя так, как будто он смотрит на меня. Но вместе с тем я вижу его, когда он сидел здесь за тем же самым столиком. Отсюда этот ужас двойного видения, который я ощущаю как раскол действительности, нечто непереносимое — как будто сам себе смотрю в глаза. Из репродуктора доносится увертюра к третьему акту «Травиаты».
Среда
Милош: «Захват власти».
Очень сильная книга. Милош — это для меня событие. Единственный из писателей в эмиграции, которого эта гроза вымочила по-настоящему. А других — нет. Они, правда, тоже были под дождем, но с зонтиками. На Милоше нитки сухой не осталось, а в довершение ко всему буря сорвала с него одежду, и он возвращался голый. Я доволен, что приличие соблюдено! По крайней мере один из вас голый. Вы, все остальные — в этих ваших штанах и курточках разнообразных фасонов, с этими вашими галстуками и носовыми платочками — неприличны. Стыдно!
У нас нет недостатка в талантах; очарователен, например, роман Юзефа Мацкевича «Дружище Флор», а Страшевич разразился каскадом юмора — однако никого из них нельзя назвать достаточно посвященным. А Милоша можно. Милош всмотрелся и увидел — ему в блеске бури явилось нечто… медуза нашего времени. От которой Милош пал опустошенный.
Опустошенный? Нет, пожалуй, это слишком. Тогда, может, посвященный? И это тоже слишком, вернее — какое-то слишком пассивное посвящение: вслушиваться в свое время. Да. Но не поддаваться времени. Трудно об этом говорить на основе тех прозаических произведений, что были созданы до настоящего времени, — «Порабощенный разум» и «Захват власти», а также тома стихов «Дневной свет» — поскольку тематика их специфична, это переосмысление определенного периода, а также — свидетельство и предостережение. Но я чувствую, что Милош позволил Истории навязать ему не только определенную тему, но и определенную установку, которую я назвал бы установкой перевернутого человека.
Но, может быть, Милош все-таки борется? Да, борется, но только с помощью того оружия, которое разрешает ему противник, это выглядит так, как будто он поверил коммунизму, что он — вышел на последнюю героическую битву как подавленный интеллигент. Этот нищий, любующийся своей наготой, этот самозабвенно погруженный в свое банкротство банкрот, по-видимому, добровольно ограничил свои возможности эффективного сопротивления. Ошибка Милоша — как я ее вижу, причем ошибка довольно распространенная — состоит в том, что он сокращает, ограничивает себя в соответствии с размерами той бедности, которую он описывает. Боясь славословия, лишая себя права на какую бы то ни было роскошь, он, Милош, лояльный и искренний в отношении своих братьев по несчастью, хочет быть таким же бедным, как и они. Однако такое намерение в художнике противоречит сути его творчества, поскольку искусство — это роскошь, свобода, игра, мечта и сила, искусство рождается не из бедности, а из богатства, рождается не тогда, когда оно под конем, а тогда, когда оно на коне. В искусстве есть что-то триумфальное, даже тогда, когда оно в отчаянии. Гегель? У Гегеля мало общего с нами, потому что мы — танец. Тот человек, который не позволит себя обеднить, ответит на марксистское творчество другим творчеством, удивляющим новым непредсказуемым богатством жизни. А Милош? Его-то хватило на последнее усилие, чтобы вылезти из повязавшей его по рукам и ногам диалектики?