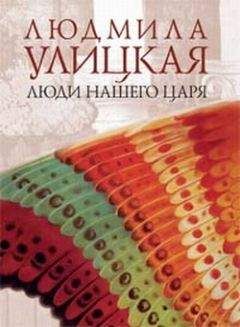Меир Шалев - Несколько дней
В кастрюлях кипело и булькало, клубы ароматного пара и тонкие запахи легких приправ поднимались от них. На кухне Яаков всегда отдавал предпочтение тактике легких, почтительных прикосновений, а не атакам и принудительной ассимиляции. От сознания собственного мастерства он не вознесся в своей гордыне, напротив — проникся уважением к зеленому огурцу, свежему яйцу, мясу и фруктам.
— Я когда-нибудь рассказывал тебе, кто научил меня куховарить? Это был мой работник-толстяк, который умел подражать голосам животных и людей. Он был великим поваром. Благодаря ему я понял, что приправы в еде должны мирно сосуществовать, а не смешиваться, как чувства в нашей душе. Поэтому, Зейде, крупная соль, гораздо лучше, чем столовая, которая растворяется в еде без следа. Но в душе любовь, забота и ненависть должны смешаться точно так же, как страх, тоска и радость. Иначе, мой мальчик, твое сердце может разорваться на кусочки.
С этими словами Шейнфельд ни с того ни с сего сунул палец прямиком в центр кастрюли, кипящей на огне, и я подскочил на стуле от неожиданности.
— Тебе что, совсем не больно?
— Больно? — он невозмутимо облизал палец. — Что еще может болеть в этом теле? Я уже наполовину слепой, плохо слышу, даже боль еле чувствую, а о памяти и говорить не приходится. Очевидно, боль и память — такие же чувства, как слух или зрение. Сегодня утром я подумал, что из-за дырявой памяти старики иногда забывают умереть… Так все тянем и тянем, пока все вокруг не забывают, кто мы такие и что делаем в жизни. Ибо что у старика осталось, кроме его старости? Ни сил, ни ума, ни женщины, только воспоминания, которые ломают ему жизнь и доканывают тело. — Шейнфельд задумался на пару секунд, а затем добавил: — Если Бог позволяет пожить тебе еще пару годков, он всего-навсего дает тебе возможность совершить еще пару глупостей. В деревне за рекой жил один старый гой. Когда он дожил до ста лет, то вдруг испугался, что его не захотят пустить в рай, потому что и там предпочитают кого-нибудь помоложе. Может, поэтому Ангел Смерти так рассердился на твою маму за имя, данное тебе. Он-то думал, что в его руки плывет юный ингале,[88] а тут вместо него какой-то Зейде, ой а-брох![89] Так вот, каждое воскресенье этот старик-гой во время молитвы в церкви кричал на ихнего Бога, чтобы тот наконец забрал его к себе, что ему надоело ждать так долго, и что все, кому не лень, лезут перед ним без очереди. Для того чтобы стать стариком, не нужно учиться или долго работать, стоит только подождать, и все придет само. Я, например, несколько лет назад перестал бриться перед зеркалом. Ты спросишь меня: почему?
— Почему?
— Так вот, я тебе объясню. Во-первых, после стольких лет рука знает лицо наизусть. Во-вторых, в моем возрасте, когда человек глядит в зеркало, он видит там незнакомца. Поэтому, если он так настаивает, пускай там у себя, в зеркале, сам и бреется, а я не хочу. К тому же у старости есть еще один плюс — люди вокруг тебя понемногу исчезают. Некоторые — потому, что я надоел им, другие — потому, что я о них забыл, а третьи — просто умирают. Тогда-то ты понимаешь, что Ангел Смерти издалека пристреливается, как в артиллерии. Поначалу снаряды падают мимо цели, все ближе и ближе, пока наконец не попадают в нее. А я все живу на своем необитаемом острове, как Робинзон Крузо. Вот что такое старость… Это остров, и куда бы я ни пошел, он всегда со мной. Ты ведь замечал, что на улице никто со стариками не разговаривает. Это оттого, что они — как одинокие острова со всей этой водой вокруг. Иногда на горизонте появляется далекий корабль. Ты разжигаешь костер до неба, бегаешь по берегу, палишь в воздух и кричишь: «Скорее! Ко мне!», но это всего лишь почтальон или домработница, да еще Зейде раз в десять лет заглянет на огонек… Счастье, что Папиш-Деревенский не забывает обо мне. Иногда он переплывает со своего острова на мой поболтать о том о сем, а в основном для того, чтобы глазеть на Ривкину фотографию на стене и ругмя ругаться. Раньше Папиш приезжал ко мне на автобусе, а сейчас я звоню своему таксисту, и тот привозит его ко мне, как барина. Недавно я пожаловался, что мозги мои высохли, как изюм. Знаешь, что он мне на это сказал? Он меня успокоил: «Ты не должен этого пугаться, Шейнфельд, ты ведь и в тридцать был форменным идиотом…» И над ивритом моим он все время смеется. Что удивительного в том, что я так разговариваю? В те годы, когда Папиш учился в хедере,[90] а потом в ешиве,[91] я работал, как проклятый, на дядьку-злодея. Но в основном, конечно, он сердится на меня из-за Ривки, до сегодняшнего дня не может мне простить. Приходит, садится вот здесь, смотрит на этот ее портрет и все вздыхает. Однажды он попросил меня: «Сделай мне одолжение, Шейнфельд, опиши мне всю эту красоту, как она выглядела без одежды». Чтоб мне так было хорошо, Зейде. Даже не покраснел!
Я рассмеялся.
— Так что, Зейде, если тебе повезет, то сегодня — наш последний ужин, и больше твой папа не будет тебе морочить голову.
Он с трудом встал, подошел к большой черной печи, открыл тяжелую чугунную заслонку. Оттуда вырвались горячие клубы розмарина, вина, оливкового масла и чеснока. Я зажмурился от удовольствия и потянул носом.
— Что ты приготовил на этот раз?
— Бедного ягненка. Есть один слепой старик в деревне Илют, с которым я давным-давно знаком. Он послал его мне со своим внуком. Просто не верится! Я сижу, вдруг — стук в дверь, на пороге незнакомый арабский мальчик: «Это для вас!» И уходит. Гляжу — ягненок! Я сам подвесил его на дерево, зарезал и снял шкуру. Ты бы поверил?! Здесь, в Тив'оне, на улице Алоним, вот так, среди бела дня зарезать ягненка! Тут из-за выброшенной конфетной бумажки на тебя косо смотрят… Сам ягненок, разумеется, ничего не почуял. Это интересно — овцы и козы ни о чем не догадываются, когда их ведут к резнику, а вот коровы — те слабеют и впадают в тоску. Когда-нибудь я научу тебя, как свежевать ягненка. Это одна из тех премудростей, которым отцы обучают своих сыновей. Невинная овечка! Ты, наверное, такого никогда не пробовал, его можно есть одними губами!
Яаков улыбнулся и накрыл на стол. Передо мной возникла тарелка с огромной порцией ягненка с пряным рисом и овощами, а себе он, как обычно, приготовил яичницу с салатом, брынзой и оливками.
— Эс, майн кинд.
Мясо действительно оказалось превосходным.
— Если бы ты захотел, я мог бы кормить тебя с рук, как младенца или женщину…
— Не нужно, Яаков.
— Когда человека кормят с рук, это как видеть его раздетым: приоткрываются губы, подбородок немного опускается, и показывается язык. Если кормишь женщину, главное — вовремя отдернуть пальцы, так как укус после этого напрашивается сам собой. Возьми, Зейде, скушай! — он приблизил к моим губам маленький аппетитный кусочек.
Я отпрянул назад, и Яаков, вздохнув, вернул кусочек на тарелку.
— Тебе вкусно? — спросил он.
— Это очень вкусно, — признался я. — Как будто павлиний хвост раскрывается во рту.
— Павлиний хвост… — протянул Шейнфельд. — Красивую вещь ты сказал, прямо как Папиш-Деревенский. На здоровье…
Он запнулся, и слово «сынок», что готово было сорваться с языка, так и не прозвучало.
Глава 3
Однажды, по рассказам стариков, бумажный кораблик, пущенный вниз по реке, исчез.
— Это было хуже всего. Парень, чей кораблик отнесло далеко по течению, навеки потеряет покой. Даже если он женится когда-нибудь — это не принесет ему счастья. А кораблик будет плыть всю жизнь в его голове и каждую ночь попадать в руки к другой женщине.
Шестьдесят лет спустя прибывает в эту деревню незнакомая молодая девушка и направляется прямехонько к дому одного крестьянина по фамилии Ноздрев, которому давно перевалило за восемьдесят, и ни одна женщина уже не позарилась бы на него.
— С тех пор, как у него исчез кораблик, он четыре раза женился и столько же раз вдовел сразу после свадьбы. Когда такое происходит, наверное, стоит задуматься, не пытается ли Господь сказать тебе что-то, — заметил Яаков.
Гостья позвонила в колокольчик раз, потом другой, но старый Ноздрев был ко всему глух, как тетерев. Девушка долго стучала, кричала в окошко, а когда наконец потеряла терпение, открыла дверь и вошла. Стоило ей коснуться плеча крестьянина, как блаженная улыбка разлилась по его лицу. Старик понял, что это и есть та самая женщина, которая приходила к нему во снах, вытесняя из них всех остальных. Он заплакал, так как был уверен, что вот-вот проснется и видение, по своему обыкновению, испарится. Но гостья обвила его морщинистую шею тонкими, душистыми, совсем настоящими руками и прижала тощее тело к своей пышной груди. В тот же день они пошли в церковь, и там девушка предъявила изумленному священнику маленький бумажный кораблик, пущенный за много лет до ее рождения, приплывший к ней измятым и выцветшим, преодолев в течение шестидесяти лет около трехсот километров к востоку от места, где он был пущен.