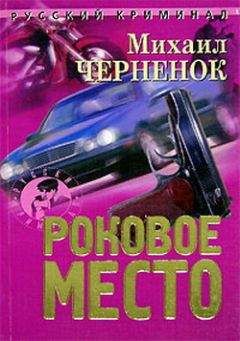Михаил Тарковский - Тойота-Креста
– Или когда кто-то особенный рядом… Ты же любишь спать… при собаках…
– Я люблю спать при собаках, но жить приходится… при коне… Да…
Скажи, мой друг, зачем всё это,
Когда грядёт в тиши ночной
Вопрос заветный и больной:
Куда покатится монета
И сколь проскачет вороной…
И я не могу ей этого объяснить. Ни-че-го ни-ко-му нельзя объяснить… Самыми лучшими словами. Словами ничего не объяснишь. Это хуже всего.
– Просто дело в словах. Они же добирают смысла. Как ими можно что-то объяснить?
– Можно или перелить седьмое чувство, или… поговорить со словами…
– Чтоб были побыстрее…
– Или с конями, чтоб… помедленнее…
– А лучше всего не доводить до… коней.
– Но если уже довели… и она с ними.
– Мне кажется, пока её не было, ты не судил людей. Тебе всё равно было. Да? Помнишь нашу гору с зубчатым гребнем?
– Да.
– За что ты её любишь?
– За твоё имя.
– Не подлизывайся… Ещё?
– За то, что с неё всегда видны две дороги.
– И есть две такие дороги: спастись или спасти мир… Тебе кого жальче?
– Мне жальче мир.
– Плохо. Ладно, давай так: есть две дороги, по какой идти?
– Которая труднее. Да? Надо их простить, чтобы её вернуть? Да? Или что?
– Не скажу… Похоже, они…
– Не добрали смысла?
– Угу.
– Ты меня презираешь?
– Я тебя понимаю.
– Ты железная, а добрее меня. Ты устала?
– Быть железной?
Она ещё что-то хотела сказать и замолчала. Женя забеспокоился:
– Что? Почему ты молчишь? Что происходит?
– Жень.
– А?
– А зачем ты меня жалеешь?
– Как?
– Так. Я же чувствую.
– Что ты чувствуешь?
– Ты боишься мне что-то сказать. Да?
– Да.
– Ты боишься сказать, что тебе пора менять машину.
– Да.
– И думаешь, я сама не понимаю… Я ж у тебя… под тачкой.
– Тебе плохо со мной?
– Мне хорошо.
– Правда?
– Правда.
– А мне плохо…
– Со мной?
– С собой…
– Ну, перестань… Правда… Ну посмотри… видишь, всё как всегда… Как у нас… Смотри, пихты… такие острые, ты же их знаешь… А вот и перевал… и снег… Ты поставишь нашу музыку?
– Я поставлю… Я, знаешь… тут выходил… На заправке… Ты такая красивая.
– Ты меня не забудешь?
– Никогда. Ты простишь меня?
– Да.
– Почему?
– Потому что в коне главное – всадник.
– Я люблю, когда ты так светишься… изнутри… Кажется, что мы летим и никого нет. Ни с нами, ни на дороге. Одни звёзды. Ты любишь так?
– Да… Не говори ничего.
– Почему?
– У тебя бывает? Несколько слов услышишь, и что-то сдвинется в душе… и так дорожишь этой подвижкой, что страшно… а вдруг не так понял.
– У меня с книгами так бывает.
– И что ты делаешь?
– Я закрываю, откладываю. И живу дальше, до следующей… заправки.
2
– Ты много читаешь…
– Ну да… И много и мало.
– Как это?
– Ну, по количеству книг мало, а по тому, как к ним возвращаюсь, много.
– Ты читаешь одно и то же?
– Да. Я по многу раз некоторые книги читаю. Есть такие писатели, они как огромное дерево, оно лежит, и вдоль него всю жизнь едешь, едешь и можешь даже до вершины… не дожить. Но это неважно. Важно, что с этим деревом хорошо и спокойно. Оттого, что родился рядом. И в одну землю упадёшь. И что это твоя земля.
3
Уже в полный свет светились все приборы и звёзды… Всходил догорающими углями город… Проехав колонну дальнобойщиков, Женя поворачивал на площадку перед гостиницей. Поселившись в комнатке, где койка с цветным покрывальцем и пружинистой, совсем поролоновой, подушкой, он входил в толчею и жар кафешки. И слышал за аркой перегородки нестройный гул, звяканье посуды и что-нибудь вроде:
– Он её затрагиват, а она и ржёт, кобыла рыжая!
И хриплый женский голос, декламирующий, очень отчётливо, громко и раздельно:
– Не на-до ля-ля!
А поужинав, выглядывал на улицу к машине, на стекле которой тускло отражался неоновый фонарь. И хрустел под звёздами обратно к крыльцу, на котором курили мужики с грубыми и простыми лицами. И поворачивал латунный ключик с острыми и будто свежими гранями и ложился на прохладные простыни и некоторое время видел дорогу. С кавернами и ямами по всей ширине, где машины едут медленно, лавируя меж ям, то и дело выезжая на встречную полосу. Дорога набегала, требуя какого-то лишь ей понятного и неподъёмного участия. И чего-то хотела от него, и это неясное нарастало по мере подъезда к точке засыпания и срывалось, и приходилось засыпать в несколько заходов.
А утром глядел на синеющее окно, на рассвет, который каждый раз опережал его на час, торопил, зовя и не щадя, словно наступал. И было что-то магически жизненное в этой серости, в выходе на сизую от холода улицу, в прицепе, забитом снегом и с одиноко опущенной водилиной. В мужиках, уже давно вставших, на ходу курящих, базланящих, бегающих с ключами, уже греющих картер «камаза». В паялке, которая пыталась задержать эту синеву и этот рассвет, хлынувший с двойной силой, едва она, зачадив, погасла. И запустившийся дизель, и снег с овалом копоти под выхлопушей. И перекличка: «Где Руслан?» – «Скамейку» запускает». И «скамейки» («скании»), «фрэды» и «интеры» с заиндевевшими панелями огромных кабин, с баками в изморози, со стёклами, заросшими звёздами. И они, вздрогнув, тоже запускаются породистым рокотом, и вот уже вся площадка дрожит дизелями, и сводит нос от этой морозной смеси, от остроты и правоты жизни.
Он нежно отёр ей глаза, очистил зеркала и окна от снежной пыли. Когда выезжал, свет фар еле желтел наснегу. Долго ехали, пока она не сказала:
– Ты слышишь?
– Да. Помпа. В Челябинске сделаем.
– Только я не хочу… чтобы ты меня чинил. Сам.
– Ты стесняешься?
– Да. Я раньше не стеснялась? Ты не будешь?
– Нет…
– Ты можешь поспать или… почитать.
– Я почитаю.
– Только ты даже не смотри. Ты правда не будешь?
– Я не буду.
– Я хочу, чтобы ты меня запомнил… другой. Помнишь, ты говорил, что любишь, когда ночью и когда всё светится… Как там было?
– Да… Когда тепло, и всё светится, и мы едем, и, если ясное небо, обязательно взлетает какой-нибудь самолёт… и он нам как брат… по этим кнопочкам и циферблатам, по этому небу. И кажется, мы тоже летим, а когда дорога поворачивает, звёзды тоже чуть поворачивают. И такое чувство, что… у нас здесь тоже звёзды и… даже… что-то колется…
– Хм… А днём?
– А днём я люблю на тебя смотреть где-нибудь на заправке, так вот… в три четверти…
– А я красивей изнутри или снаружи? Ты молчишь? Я тебя подловила?
– Ну что ты…
– Хм… Ты смеёшься…
– Нет… Но я должен подумать. И почитать.
– Что ты будешь читать?
– Книгу, которую она подарила.
4
Женя выбрал главку покороче. Она называлась «Притча об Иване-охотнике». Женя так и не выходил из машины и закончил читать за минуту до того, как парень в высоких по грудь штанах на бретельках вытер тряпкой руки и, закрыв капот, подошёл к окну. Женя 181 машинально рассчитался и выехал на улицу.
В городе было тепло и слякотно, всё плыло коричневой кашей, летело брызгами от фургонов и автобусов. В приоткрытое окно остро слышался шелест резины, запахи улицы. Город он проехал, не останавливаясь, только на заправке долил омывателя. По трассе шёл, следя за указателями, чтобы не прозевать поворот на Шадринск. После поворота машин стало меньше, а дорога уже и хуже. Чуть подстыло, пошёл снежок.
– Как там было? – спросила Креста.
– Там была история одного человека. Трудолюбивого, терпеливого, выносливого, знающего себе цену… Вроде Михалыча… Он и работал тоже охотником и без работы жизни не представлял. И дело знал превосходно и относился к нему, как и относятся к делу жизни – с трезвой любовью и без рассуждений.
Были сотни работ в его промысловом деле, и лишь к одной он относился особо – к стройке новых избушек. Знаешь… когда под звёздами… со свежим деревом… и когда умеешь… и когда всё в один узел – и нужда, и красота, и труд… тем более… ведь не просто… а дом строишь…
Хорошим инструментом можно любой брусок, пластину, доску выпилить – какую-нибудь листвяжную с тёмно-жёлтым рисунком или белую кедровую, у которой сучки потемнеют до коричневости и будут играть чyдно и глянцево. А стены, изнутри опиленные в ровную плоскость! А потолочная балка, ошкурённая ёлка, ещё мокрая от сока и будто вытянутая из куска сливочного масла. А пол, а дверь, а навес перед избушкой… А вокруг остроконечная тайга, и снег, и звёзды, и чёрная сопка. И речка, к которой будешь несколько раз выходить вечером, стоять и смотреть на воду, как заворожённый. А потом лежать на нарах и видеть свою работу, жёлтые стены, окно в ровной рамке, и за ним синюю бездну – лёд, камни, тайгу – витую, лохматую, могучую. И такое ликование, такая сила сквозь тебя заструится от земли к небу, такой причастностью мир одарит, что ради этих минут будешь служить ему до конца.